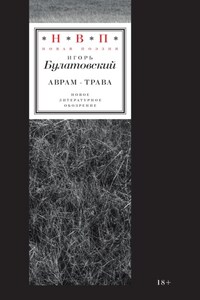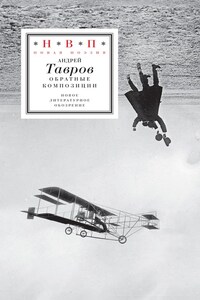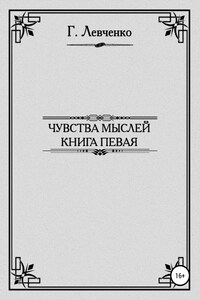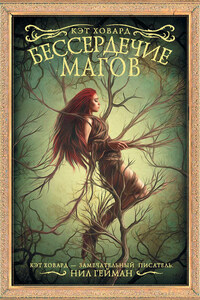По направлению к интерпретации
В эту книгу включены тексты последних более чем двадцати лет, написанные в разных исторических и биографических обстоятельствах, существующие в контексте различных поэтических техник. Дистанция, отделяющая появление сборника от включенных в него текстов разных лет, не только позволяет прояснить пути становления, отражения, отталкивания, соответствия и контрпримеры поэтики Елены Костылевой, но и проявляет новые, синхронно не свойственные интерпретации ранних стихотворений, соположенных с появившимися позднее, до этого момента не публиковавшимися. «Антологическая» природа сборника фокусирует художественные качества лирики Костылевой.
Первая поэтическая книга Елены Костылевой, «Легко досталось», вышла в 2000‐м году в издательстве «KOLONNA Publications», ее творчество воспринималось одновременно в поэтическом контексте литературного товарищества «Вавилон» и «Митиного журнала». В короткой заметке, посвященной выходу книги, один из журналистов «Литературной жизни Москвы» отмечает эволюцию образности Костылевой в сторону «большей жесткости высказывания (условно говоря, от Станислава Львовского к Ярославу Могутину)»1. Однако в отличии от футуристической бодлерианы Могутина, перенесенной из уорхоловского Нью-Йорка 1970‐х, откровенная лирика Костылевой обладает иной прагматикой – в ней нет и не было декларации, есть констатация аффектов и фактов, сюрреалистически неизбывных. Ее поэзия разбирает дискурсивное насилие над субъектом, манифестированное в русской поэзии Дмитрием Волчеком.
Контуры следующих отдельно опубликованных поэтических циклов Костылевой —«Лидии» (2009) и «Дня» (2019) – продолжают развиваться в найденном поле. Автоматическое письмо Костылевой переосмысляет опыт Волчека, спорит с «автоматом» Генри Миллера – бессознательное оказывается телесно познаваемо, выражаемо посредством телодвижений, резкость которых фокусирует модернистские образы. Радикальная физиология текстов-встреч, встреч-сексуальных контактов, будто бы не содержащих ничего кроме телесной смеси и отрешенной, безжалостной по отношению к лирическому субъекту гендерной метарефлексии посредством стертых формул, расхожей бытовой фразеологии – он качал меня чистыми и большими руками / я сказала спасибо маме («Анальный секс в гостинице „Октябрьская“»), – это от «Лидии». Символизация элементарной единицы человеческого взаимодействия — я день дня/ я ночь ночей твоих («ты состоишь из плохого бозона Хиггса…»), – построение образа невозможного переживания как сексуального избытка, библейской тоски о грехопадении, оставшейся после случайных (банальных) фраз и банальных (случайных) поз, – это из «Дня». Гиперцветаевская физиология души, материальная космогония любви, объединенные в новой книге, не воспринимаются как эволюция форм чувствования лирической героини, не предполагают поисков поэтики гендера, телесности, документальности, биографизма – эти тексты не идут ни по пути развития натурализма, ни по пути развития символизма образов. Откровенная, граничащая с мазохизмом интонация, радикальный эротизм – черты поэтики, присущие текстам Костылевой изначально.
Ее письмо заново означивается в контексте сформировавшейся в 2010‐е годы феминистской поэтической сцены – искренность и безапелляционность коммуникации-секса (обучив модернистской рефлексии «могутина») эксплицирует проблематику иерархической природы всякого дискурса, проблематику социализации женщины и насилия письма над поэтом. Именно последняя – метапоэтическая – форма эскалации фем-дискурса, кажется, присуща Костылевой в большей степени. Ее тексты не примыкают к прагматике политического (идеологического) сопротивления маскулинному властному дискурсу, в разных формах присущей поэзии Оксаны Васякиной и Галины Рымбу. Прагматика художественного высказывания Костылевой в этот период – сопротивление концептуалистскому выхолащиванию чувственного. Как пример поэтики отталкивания, кажется, лучше всего взять документальные тексты Лиды Юсуповой, в которых констатируется неспособность поэзии к критике социального угнетения.
В одном из самых популярных стихотворений Юсуповой, «Матеюк» (2016), изображается сцена насильственного секса. Лирическая героиня ошеломлена хрестоматийной обстановкой питерской коммуналки, истощена неумолимыми блужданиями по Васильевскому острову, ночевками с подругой и без в случайных комнатах – нарративно предшествующих сексу с Матеюком, но будто уже содержащих постравматическую отрешенность (предшествующие сексу события могут восприниматься как сюрреалистское возвращение прошлого в происходящем здесь и сейчас). Не способная сформулировать отказ, не способная оказать сопротивление, героиня бесконечно повторяет одну и туже фразу это неправильно, это неправильно, это неправильно…2, замещающую изображение полового акта. Документальное повествование сменяется аффектированными репликами, дискурсивно оформляющими, эксплицирующими насильственность совершаемых против нее действий. Прямая речь лирической героини Юсуповой выстраивает дискурсивные заслоны насилию, однако инерция поэтической речи возвращает ее высказывание в сферу слов, не способных на действие. Вербальное отрицание нормальности ситуации воспроизводит ритм насильственного секса.
В не вошедшем в настоящую книгу Костылевой тексте «Язык насилия» (2014) также описываются последствия изнасилования, однако дискретность, анахронизм повествования, его аффектированность создают аналитическое пространство для концептуализации насилия, помещения его в контекст категориально равных понятий:
Вот вам пример: мне нужно уйти, пока дети с няней, но свекровь смотрит на меня осуждающе – я прошу ее не осуждать меня, говорю, что если еще и она будет меня осуждать, то я просто буду все время плакать.
– То есть вы уговариваете насильника вас не насиловать, – говорит аналитик.
Я уточняю:
– Я не уговаривала его меня не насиловать. Я уговаривала его не убивать меня. Я предлагала насилие в обмен на жизнь.
Насилие в этом отрывке находится в сложном взаимодействии с жизнью, которая не возможна без насилия, но и не утверждает насилие в качестве своего обязательного атрибута, предполагает возможность его психоаналитического изживания. Возможен однозначный выбор – между смертью и насилием. Лирический нарратив вскрывает диалектическое основания категории насилия, разрешая задачу ее определения в повторении и наложении ситуаций. Уточнение лирической героини, очевидно, не относится к интерпретации ее диалога со свекровью. Бытовая ссора, очередное насильственное действие, перефокусированное, осложненное, но и конкретизированное обстоятельствами, действующими лицами – любимой свекровью, ее взглядом, няней, детьми, делами, – соотносится с ситуацией, сообщенной психоаналитику, без контекста, представленной только абстрактными категориями и необходимостью выбора между ними. Диалектическое взаимодействие с языком насилия – найденный Костылевой способ почти беньяминовской критики, его различения, диссоциацией насилия с рядом сопряженных феноменов, с субъективным переживанием документальной и символической реальности отдельных художественных образов.