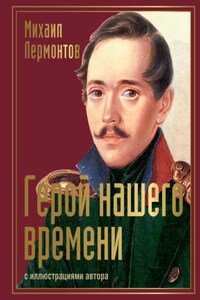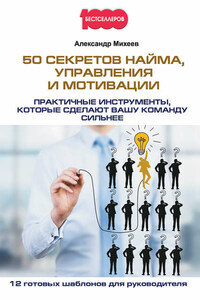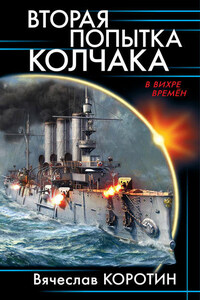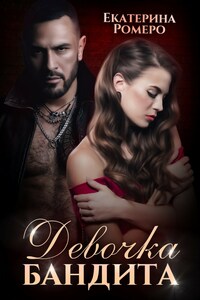В разную пору жизни мы поднимаем именно те паруса, что способны выдержать порывы наших устремлений. Движимые вперёд бурями желаний или страстей, они полны ветра, словно решимости доставить по назначению, да только не всякий раз, причалив к нужному берегу, мы переступаем с шаткой палубы на уготованный нам берег. Мечты прожорливы, капризны, требуют неустанного труда и внимания. Их нужно пестовать и баюкать, уговаривая не опускать рук, не оставлять начатого, а убеждая в неповторимости, умалять заодно все до единого волнения и страхи, не оставляя им ни малейшего шанса. И ведь может статься, не сдержишься однажды, наговоришь лишку, хлопнешь дверью, после чего, – либо всё заново, или вовсе, – пропало дело. Куда как безопаснее, лавируя промеж грёз, без устали подавать надежды себе и другим, многозначительно и загадочно улыбаясь при этом. Дескать: «Я бывалый моряк, мне ли не знать всех мелей, да рифов…» А что, кроме серьги в левом ухе и сорванного хрипатого смеха, у него за душой ничего, так про то как-то неловко, не то, что упоминать, но думать даже. Старается, всё же, человек…
Так – добро бы оно эдак, а то ж всё больше обетов, нежели надсады. И ведь если бы они были обещаны только прочим, но ведь и для себя одни лишь клятвы: «Завтра… Вот завтра, – непременно!» Произнесённое только что неизменно оказывается сказанным третьего дня.
Быть может, рождённых на своём берегу, коим нет нужды тратить жизнь на поиски, судьба избавила от многих хлопот, но лишила она их и счастия. Обретший, наконец, свою долю, незримо ведомый… Не в том ли был свыше уговор? неведомо. Ни нам, ни ему…
– Не трогайте!
– Тебе чего, жалко?
– Для вас – да, и не надо мне тыкать, пожалуйста…
Виноград. Его плоды более, чем скромны, пока растут. Перламутровые от росы нефритовые мелкие шарики приникают к груди роскошной листвы, и та баюкает его, а ночами они дробно дрожат от холода, обнявшись. Звуки их сместного трепета тревожат поутру, и он куда как громче неприличного чавканья, которым грешат улитки, обгрызая картофельную ботву.
Взрослеет виноград едва ли не в один час. Он делается вдруг заметным. Выпроставшись из пелён листвы, отстраняется от неё, пренебрегая призором, и парит, напрягая пирамиды гроздий, собрав их в кулаки с плотно сжатыми пальчиками ягод. Листва, растроганная сочувственным умилением, сперва теряется, но вскоре теряет свой вид и вянет. Рассерженная осень, из сострадания к элегантности гроздий, от нелепости их пребывания подле поблекшей листвы, спешит оборвать её, даже не подозревая про то, какой недоброй оказывается услуга. Оставшись совсем без защиты, виноградины пекутся на свету, зябнут при луне, и скоро старятся, превращаясь в изюм, ибо некому боле печься об их благополучии.
Урожай винограда. Каждый оценивает его по-своему. К примеру, – числом амфор, наполненных отжатым соком, – свежим или возмущённым брожением, бесшабашным либо умиротворяющем. У кого-то так. Но на одной чаше моих умозрительных (духовных!) весов – красиво сложенные ягоды, от аромата которых кружит голову, а на другой… Густой сладкий свет солнца, запертый в гроздьях и жизни многих птиц, что прилетают по всю зиму под окно, дабы отведать того самого винограда, которого так жаль для иных.
– Что эти ягоды для вас? Так – баловство, кислятина, а для пернатых – ещё один день. Один прожитый день…
Лес был неряшлив и запущен. Он скрежетал коронками разрушенных зубов, гнилыми пнями, с застрявшими между ними остатками лета, от которого не осталось даже послевкусия, и съеденной в один присест осени.
Лес щёлкал замёрзшими пальцами неведомый никому ритм. Пытаясь попасть в такт, тряс вымокшей много раз, но немытой головой, и что греха таить, – выходило дурно, ибо этот ритм, лихорадочное дыхание зимы вослед уходящей осени, был незнаком ему самому. Высота и длительность звуков не имели ничего общего с мелодией, это была некая композиция страха перед грядущим, не больше, не меньше.
В надкусе обломанной ветром ветки был заметен свежий кремовый цвет томлёного в печи молока. Некогда поверженные им же, припорошённые первым снегом извилистые стволы гляделись не иначе, как неловко расположившимися для зимовки змеями.
Тутовик рядился то ли лисой, то ли белкой. Пышная рыжая его юбка заставляла любоваться собой.
Повсюду лежали груды вываренных холодом костей поваленных стволов. Присыпанные солью снега, они возбуждали чревоугодие и тем казались довольно нелепы. Время вытянуло из них корни, как сухожилия, что связывали их с бытием.
Повсюду, выделанными пластами телячьей кожи, раскачивались широкие куски коры.
Зажатая меж пальцев раздвоенного ствола ветвь, будто пахитоска в измождённой руке старой девы. Они обе чахнут, но делают это красиво, хотя и нездорОво.
Клубы земли, скатившиеся с корней вековых дубов в небытие, понемногу осыпались, пачкая павшую задолго до них листву. Замершие в пол шаге от земли драконы стволов… Их, незавершённые окончанием жизни дела, было неимоверно жаль.
Прибитые ко дню ржавыми гвоздями поганок, сипло скрипели расшатанные ступени вечера. А ночь, что шумно следовала за ним, ступала, стараясь вовсе не оставлять следов. Их на земле было предостаточно и без неё.
Песчаные дорожки к реке будто бы выложены песочным печеньем в тончайшего помола сахарной пудре снега. Ступать по ним боязно. Хрупкости жаль. Своей ли или самого пути? Так любая тропинка полна подвохов. Подножка корня, выставленная на самом виду, не столь опасна, как упрятанная под горстью изнеженной инеем листвы.
Сквозь тонкий платок снега, натянутый на зелёные звёздочки пучков травы, столь деликатен с виду, что это тоже мешает наступить на него. «Так куда же?» – Думается в растерянности. И, затем, чтоб не попортить чего, бредёшь по бурьяну, чьё буйство, приниженное сугробом, потворствует всему, что готово его проучить за непокорность в летнюю пору, за помеху, – в первую голову.
Весь этот, взявшийся ниоткуда трепет, портит недописанный, недорисованный треугольник следов зайца, которому всё равно – куда бежать, но есть разница – от кого. Он скачет, запряжённый сам в себя, широкие поводья ушей свободно лежат на спине, но, хотя в спешке, осторожно огибает семейство сморчков, что растут вблизи сосен и нарядились сосновыми шишками. Даже вблизи не разобрать, точно ли это они.
Не мешая косому предаваться испугу, мы бредём дальше, дабы приникнуть к дубу, прижаться к его крепкой груди. Дуб стоит в вечном ожидании, раскинув на все четыре стороны руки ветвей, с намерением выслушать молча, убрать от души то бремя, которое больше не разделить ни с кем.
И если вдруг ветер доносит из лесу скрежет зубовный и стон, то это не кто иной, как дуб, не в сила слышать дольше обо всех печалях людских, рвёт себя из земли.