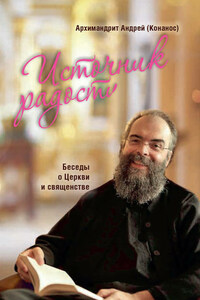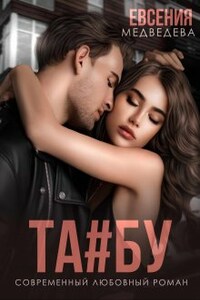Соловьи поют только на Родине
– Ты ещё здесь?!
Он посмотрел на меня с недоумением
– Это неосмотрительно, безрассудно, недальновидно, в конце концов!
– Я тебя не понимаю. – Ответил он и подошёл ближе. – Разве что-то изменилось за это время? Что… кто принудит меня оставить тебя и бежать? Или ты охладел ко мне?
Подобные выяснения отношений всегда тяжелы. В попытке отыскать поддержку на небесах, я поднял глаза, но небо было безоблачным, там не оказалось ни единой, самой маленькой тучки, которую можно было бы призвать в союзники.
– Да пойми, бедовая твоя голова, ты мне более, чем мил, но соловьям положено зимовать в тепле.
– А что, разве ты не пустишь меня к себе, когда будет мороз? – Беспечно поинтересовалась птица.
– Сомневаюсь, что тебе захочется сидеть взаперти. – Резонно ответил я.
Переступая по тонким веткам вишни, как по лесенке, соловей взобрался мне на руку.
– Ничего?
– Да, пожалуйста! – Разрешил я.
– Не больно? – Поинтересовалась птичка, имея в виду острые свои коготки.
– Нет. – Рассмеялся я. – Щекотно немного, а так ничего, хорошо даже. – Знаешь, говорят, что ты скрытный, чураешься людей, и тебя невозможно увидеть.
– Так то людей… – Туманно заметил соловушка и повертел головой, разминая шею. – Обратил внимание, вишня зацвела? – Кивнул он в сторону трёх нежных до прозрачности, белых цветочков. Само дерево давно уж было совершенно раздето, и тут, в первый день осени, такая вот неожиданность.
– Да, видел. Грустно.
– Отчего ж?
– Не вовремя. Ягодам-то, всё одно, не быть. Впустую… как бы.
– Цветение никогда не бывает напрасно! – Не согласился соловей, но тоже очевидно загрустил.
Вздохнув, он переспросил:
– Я хочу быть уверенным, что не совершаю ошибки. Ты не передумаешь? Я должен лететь?
– Увы. – Кивнул я.
– Ладно. – Согласилась птица, и добавила. – Только учти, я заранее отказываюсь петь в тех краях, и никому не доведётся насладиться моей соловьиной трелью.
Признавая бесспорное право птицы петь лишь там, где её душа не может молчать, осторожным прикосновением я пригладил выбившееся из крыла пёрышко, и прошептал:
– Настоящий соловей поёт только на Родине1. – И добавил. – Лети смело, и возвращайся. Мы будем тебя ждать.
– Мы? Это ты про него? – Усмехнулся соловей в сторону лягушонка, что сидел у моих ног. Взирая снизу вверх, тот сочувственно прислушивался, да переводил доверчивый взгляд с соловья на меня и обратно.
– Не только. – Улыбнулся я. Все, кто останется здесь, будут думать о тебе и чаять услышать вновь. А ты не отчаивайся. Расскажешь нам после, что там почём2.
– Расскажу! – Пообещал соловей.
Наутро даже ветер не тревожил оставшейся на вишне немногой листвы, а три белоснежных цветка, удивляя собой шмелей, всё ещё были на прежнем месте.
– Белым флагом признавшего своё бессилие перед грядущими холодами?
– Отнюдь. Той, незамутнённой сомнениями совестью, что как Родина, которую невозможно потерять.
– По собственно воле?
– Если она есть…
Где-то вдали, последняя в году гроза раз за разом дробно била в барабаны, будто назавтра ей предстояло выступить перед публикой, и теперь она усердствовала, дабы не ударить лицом в грязь… Хотя нечистоты после себя она оставляла, по обыкновению, немало.
Всё, не укрытое черепашьим панцирем мостовой, делалось непригодным для прогулок, хотя и привлекало взгляд, ибо сияло, блестело, переливалось в тех лучах, что солнце роняет нечаянно в сумеречный день через прореху облака, но спохватившись скоро, подбирает назад, и дремлет после, как ни в чём не бывало, до следующего погожего дня. А вот когда случится такой день? Как знать, как знать…
Ветер играл помпонами клевера белой шерсти, тянул их из-под носа шмелей и пчёл, что трудились не покладая крыл в виду грядущей затяжной непогоди, набивая кладовые сот, чем только можно и покуда это было возможно. Собранный ими мёд едва ли не бродил уже в самих стенниках3, давая повод бесшабашности овладеть роем вполне, и если бы не дождь, что неслышно ступал по сухой траве, из опасения разбудить осень, то разбрелись бы уже пчёлки по дальним полянам, так что тому же ветру пришлось бы побегать за ними, загоняя назад в улей.
Бабочки плясали напоследок придворные неспешные танцы. Описывая расписными подолами крыльев полукружия, тревожили перестоявшие, сохнущие на корню букеты иерусалимского артишока4, да неожиданно грузно топали, роняя их оранжевые лепестки.
Каждый новый осенний, как и любой день, непохож на предыдущий. Облюбованная осенью округа как бы сматывает клубок времени назад, возвращаясь к начальной точке, когда всё пусто, а незанятый ничем простор тосклив и безысходен, от того, что нет причины угадывать или сочинять сложности. Всё прямо и просто. Ты или есть, или нет.
Единственный оставшийся, верный дереву кленовый лист сверкает золотом и чудится звездой. Холодное солнце добавляет ему красок, хотя, ежели по чести, мало самому. Не бьётся уже наотмашь по дерзкому взгляду, не перечится пытливому.
– Сильно надо? Ну, гляди, гляди, коли глаз не жаль. – Разрешает солнце, а само взирает рассеяно на облысевшие загодя одуванчики, и на мешаной шерсти, с примесью белого, чертополох, и даже на тот, что не сед, но растрёпан донельзя.
Потерявший душевное равновесие цикорий тоже неубран, обыкновенно расчёсанная его чёлка примята не вовремя сном и не в час пробужденьем.
Тут же кузнечик, что дюйм за пядью примеряет путь от осени до зимы.
Черный жук, чернотелка, судя по тому, что крутобока – девица, пригорюнилась, обнявши теплый ещё камень посреди дороги. В чём её печаль, догадаться нетрудно, а помочь, утолить, – то задачливо. Тут бы хотя не избыть ненароком, шагнув неловко.
Тимофеевка сеет подле себя добрым и вечным, что передаст дальше её простое очарование, утвердит право на вездесущность, сродни вечности.
Жаркий намедни ветер заметно поостыл, и не бродят от того боле по полям ветвей калины тучные стада тли, на чьем сладком молоке выросло не одно поколение муравьев и божьих коровок
Бойкие оранжевые черепашки спешат обустроить зимние квартиры. Пусть не просторные, будет довольно и тёплых, ну, а если там ещё когда чаю нальют…
Шмели и пчёлы, не считаясь визитами5, летают взад и вперёд по гостям с цветами и без, с забродившим нектаром и залежалой уже, но вполне ещё пригодной, съедобной пыльцой.
Осень, как не готовься, а всё нежданна. Вот и выходит, что всё у неё на виду, да наспех, второпях, да кое-как.
Кленовый же лист, что вроде золотой звезды на макушке, держится ещё.
– Сколь пробудет там?
– А как получится. Ветер ли, дождь – в помощь осени, но не торопит его покуда никто, некому. Всяк своим занят, всяк своё бережёт…
Ящерка выскользнула из-под ног…
Цветёт виноград, тщится успеть сладить за первую неделю осени, чего не удалось с весны. В подмогу ему приставлены ветер, кой с прохладцей ко всему, уставшая до смерти пчела и равнодушный уже шмель.