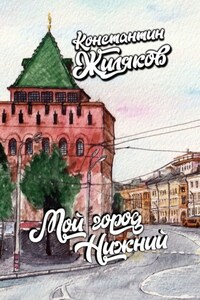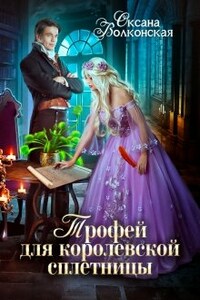Часть I
Валька
В Одоевском районном суде слушалось дело об алиментах.
На месте ответчика сидел Ефим Лукин, крепкий черноволосый мужик лет сорока с недельной щетиной на широких щеках и суровым взглядом из-под густых бровей. Своим видом он являл оскорбленную невинность и несогласие. Ноги его были скрещены, руки переплетены и уложены на умеренное чрево, на лице читалось презрение с недоумением, ноздри с шумом втягивали и выпускали спертый воздух зала заседаний.
Истица, немолодая женщина по имени Лизавета, одной рукой нервно теребила кончик платка, другой гладила по волосам сидящего рядом мальчугана.
Мальчугана звали Валькой, было ему от роду восемь лет. Как Ефим, он был черноволос и не согласен: казалось ему, что батю обижают, и виновата в этом мать, которая хочет за здорово живешь засудить отца. Валька сердился, уворачивался от материнской ладони и глядел на Лизавету с показной досадой. Еще чувствовал Валька неясную тревогу, что вроде из-за него сыр-бор, и, хотя это факт неочевидный, избавиться от виноватости не получалось. Вот и батя на него не смотрит… Чего не смотрит-то? Это ж мать судит, а он не при чем!
Отца Валька не знал и почти не помнил. Из всех детских впечатлений осталось ощущение чего-то родного, надежного. Помнил только, как мать подсаживала на печь, а там его, крохотного, подхватывали большие теплые руки, укладывали животом на загорелую волосатую грудь и укрывали спину шершавыми ладонями. Валька изо всех сил прижимался к бате, хватал губами твердые волосы отцовой бороды, вдыхал запах махорки и пота, да так, распластавшись, и засыпал.
– Слушается дело… – скороговоркой зачастил секретарь.
В первые дни войны Ефим бросил работу в колхозе, уехал в Тулу, устроился на военный завод и получил бронь. Изредка наезжал домой, но осенью сорок первого Одоев оккупировали немцы, и визиты прекратились. Весной сорок второго Лизавета родила сына, а в сорок четвертом Ефима все-таки забрали на фронт, Вальке еще и двух лет не исполнилось.
Лизавета честно ждала мужа с войны, и не поддалась даже на ухаживания председателя колхоза, которого три месяца оккупации прятала в погребе.
Вернулся Ефим только в сорок седьмом, чужой, неприветливый. Преподнес китайский шелковый платок и рассказал, что в городе у него давно вторая семья, а приехал только затем, чтобы объясниться и дать Лизавете полную свободу. С тем и отбыл обратно в Тулу.
Месяц Лизавета ревела, выслушивая советы подруг, как отомстить изменщику и его подколодной змее. Зазывали ее и к бабке-ворожее, дескать, суженого вернет, а полюбовнице сделает небо с овчинку; предлагали помощь отчаянных городских ребят, мол, так отметелят, заречется на сторону глядеть… Лизавете, однако, несмотря на боль и смертельную обиду, хватило рассудка отмести эти предложения.
Самый дельный совет дал спасенный ею председатель: подавай, мать, на алименты. А чего? Сына растить надо: обуть, одеть, в люди вывести, и все одна. Если, говорит, решишься, сгоняю в райцентр, все разузнаю, а время придет, отвезу в суд на своей машине.
Судиться с мужем стыдно, это правда, – размышляла Лизавета, – а Валька чем виноват? Отца у парня нет и уж не будет, пусть хоть так…
В общем, убедила себя принять позор ради сына.
– Ваш ребенок, Ефим Григорьевич? – спросил судья, когда секретарь замолчал.
Ответчик скосил взгляд на Вальку. Мать шепнула в ухо «Встань…» и потянула за ворот вверх. Валька слез со стула, хмуро поглядел на батю. Жгучий, нестерпимый стыд разъедал нутро, ведь что люди скажут: отца родного засудил… Ох, горюшко!
Ефим отвел взгляд и твердо ответил:
– Нет.
Не признал! – ахнул Валька.
Не признал… Как же это… Почему?!
А потому. Мать в город нарядила – сам себя не признаешь. Рубашка в горошек дурацкая, штаны наглажены, а главное, волосья зачесаны, прилизаны, как у буржуя какого! Как же его такого признать?
Валька сел на место, убедился, что мать на него не смотрит, взъерошил волосы на макушке, вскочил и выпалил:
– Батя, а так признаешь?
По залу побежали бабьи вздохи вперемешку с мужицкими смешками. Ефим поглядел на сына, дернулся, втянул носом воздух, закрыл глаза, уронил лицо на ладони. Лизавета скривилась, закусила губу и заскулила. Судья снял толстые очки в роговой оправе, задумчиво постучал ими по столу, поморщился и тихо произнес:
– Не стыдно, товарищ Лукин?
В зале повисла кладбищенская тишина, слышно было только муху, стучавшуюся о стекло за тяжелой бархатной шторой.
Судья снова постучал очками по столу.
– Истица, какова желаемая сумма алиментов?
Лизавета перестала скулить, робко встала, оглянулась, ища поддержки.
– …дцать …ать! – донеслось с последнего ряда, где сидела молодая председателева жена. – Двадцать пять!
– Двадцать пять рублей? – вопросительно ответила истица, стоя к судье вполоборота.
Судья нацепил очки, переложил какие-то бумаги, нашел нужную и погрузился в чтение. Через минуту он встал и огласил:
– Постановлением районного суда гражданин Лукин Ефим Григорьевич обязан ежемесячно выплачивать истице пятнадцать рублей вплоть до достижения совершеннолетия их общим ребенком. Копию постановления направить по месту работы гражданина Лукина.
Солнце заливало пыльные улочки районного центра, кипела белым цветом черемуха.
Лукин скрутил папироску, прикурил, выпустил носом белый дым.
– Батя!
Ефим обернулся. Валька, румяный от смущения, стоял в пяти шагах, мял в руках кепчонку.
– Батя, это все мамка. Я бы никогда… – отчаянно прошептал он.
– Поди сюда, – сказал Ефим.
Валька приблизился. Вдохнул запах махорки и новый незнакомый аромат крепкого одеколона. Хотел обнять отца, но оробел, только вымолвил:
– Прости, батя…
Ефим провел ладонью по черным волосам сына и сипло сказал:
– Все. Иди, мальчик. Ступай.
Святой
Случилось это в прошлом году на исходе мая.
Я отправился к родным в Ставрополь, а по дороге решил заскочить на денек-другой к армейскому товарищу в Приморско-Ахтарск. Для меня триста километров не крюк, если за рулем.
И вот где-то в окрестностях Краснодара гляжу, шагает по обочине поп. Настоящий поп с волосьями, бородой и прочими атрибутами служителя. На спине черный дорожный мешок на лямках. Я принял вправо, притормозил, опустил стекло.
– По здорову ли, батюшка? – говорю. – Может подбросить?
– Спаси Господи, сынок, – ответил поп и полез в машину.
Он устроился на пассажирском сиденье, пристегнулся, снял шапку, утер пот. Лет ему было за шестьдесят, лицо породистое, черты крупные, нос картошкой, лоб могучий в семь пядей. Пахло от него сыростью и прелой листвой. Верхняя куртка многое повидала, но ряса под ней чиста и даже как будто выглажена, только кромка подола снизу замаралась в дорожной пыли.
– Всю жизнь хожу, – сообщил поп. – Тяжко.