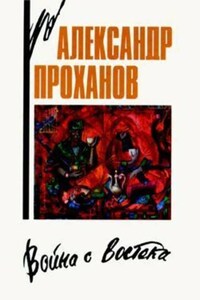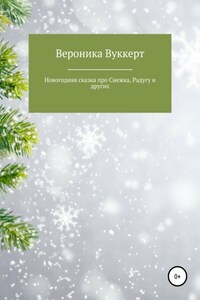Я помню Достоевского в его последние годы. Много народу бегало к нему тогда в Кузнечный переулок, точь-в-точь как еще недавно досужие велосипедисты разыскивали на Аутке Чехова, как ездят и теперь то в Ясную Поляну, то к Кронштадтскому протоиерею. По недостатку литературного честолюбия я избежал в свое время соблазна смотреть на обои великих людей, и мне удалось сберечь иллюзию поэта-звезды, хотя, верно, уж я так и умру, не узнав, ни припадал ли Достоевский на ногу, ни как он пожимал руку, ни громко ли он сморкался. Я видел Достоевского только с эстрады и потом в гробу. Но зато я его слышал. В последние годы он охотно читал обоих «Пророков», особенно пушкинского. Помню, как Достоевский поспешно выходил на сцену артистического клуба. При этом он не добирался даже до середины эстрады, где ожидал чтеца стакан воды, столь же, кажется, традиционный, как и тот, в котором должна купаться душа покойника первые девять дней своих загробных скитаний.
Достоевский останавливался у самого края, шага этак за три от входа, – как сейчас вижу его мешковатый сюртук, сутулую фигуру и скуластое лицо с редкой и светлой бородой и глубокими глазницами, – и голосом, которому самая осиплость придавала нутряной и зловещий оттенок, читал, немножко торопясь и как бы про себя, знаменитую оду.
Я не удержал памятью в передаче Достоевского всех деталей того жестокого акта, которым вводился в новую жизнь древний иудей, будущая жертва деревянной пилы. Помню только, что в заключительном стихе
«Глаголом жги сердца людей»
Достоевский не забирал вверх, как делали иные чтецы, а даже как-то опадал, так что у него получался не приказ, а скорее предсказание, и притом невеселое.
А мы-то тогда, в двадцать лет, представляли себе пророков чуть что не социалистами. Пророки выходили у нас готовенькими прямо из лаборатории, чтобы немедленно же приступить к самому настоящему делу, – так что этот новый, осужденный жечь сердца людей и при этом твердо знающий, что уголь в сердце прежде всего мучительная вещь, – признаюсь, немало-таки нас смущал. Главное, мы никак не могли примирить его с образом писателя, который за 30 лет перед тем сам пострадал за интерес к фаланстере. Получалась какая-то двойственность.
Теперь, правда, через много лет пророк Достоевского для меня яснее. Мало того, самое пушкинское стихотворение освещает мне теперь его творчество.
Пророк Достоевского отнюдь не проповедник и не учитель, всего менее в нем уж, конечно, мессианизма. Это скорее сновидец и мученик, это эпилептик, до которого действительность доходит лишь болезненно-острыми уколами. Если он берет на себя грехи мира, этот пророк, то вовсе не потому, чтобы этого хотел или чтобы ему так жаль было этого скорбного человечества, а лишь потому, что не может не бремениться его муками, как не может обращенная к солнцу луна не вбирать в себя солнечных лучей.
Вот одна из иллюстраций к моей мысли. Еще до катастрофы, фурьеристом, Достоевский написал «Прохарчина», вещь непонятую тогда и забытую потом. В этой повести изображена была душа, выскобленная и выветренная жизнью почти до полного идиотизма и одичания. Прохарчин растерял даже все свои слова, но зато перед смертью, в горячечном сне он делается на миг обладателем целого удивительно яркого мира обездоленных, вопиющих и надорванно-грозящих ему созданий: на миг он видит свое же я, только внезапно вспыхнувшее и бессчетно дробимое в мучительных кристаллах осевших паров безумия, – таков был первый абрис пророка в поэзии Достоевского. Пророк был для Достоевского скудельным сосудом божества, т. е. созданием прежде всего отмеченным и опустошенным, из которого вынули его смертный язык, сердце, глаза, вынули все, что могло служить целям обихода и давать счастье по нашей мерке. Пророк Достоевского был человеком трагически одиноким, и если слова его еще теперь еще иногда просветляют ваше сознание или даже зажигают ваше сердце, так вовсе не потому, чтобы сам-то пророк когда-нибудь об этом думал. Пророк Достоевского не только не деятель, но самое яркое отрицание деятельности, само перерождение человека а пророка не имеет ничего общего с аскезой сектанта или революционера. Весь пророк в случайности, в наитии, он весь в переработке воспринятого извне, столь же мало зависящей от него, как зависит от матери развитие носимого ею плода. Пророк говорит нам лишь об исконной подчиненности и роковой пассивности нашей натуры, тогда как деятель, наоборот, героизирует в ней мужское начало протеста и дерзания.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru