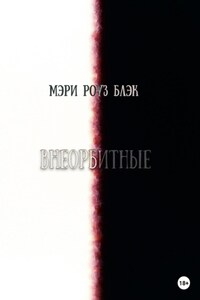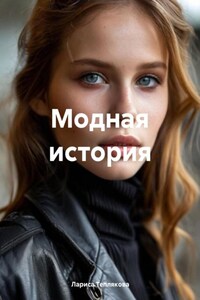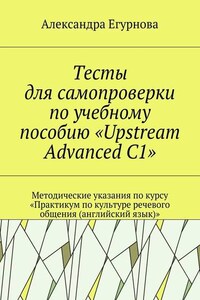Это был самый обычный для меня день. Я даже не могу понять, что могло послужить произошедшему. Но, как я уже сказала, моей вины в этом нет. Так я думала и тогда.
Вечер. Подрагивающий мотор автобуса мурлычет железом. Сонные лица пассажиров безразличны и холодны. Сижу и пытаюсь разглядеть отражение в чёрном океане окна. Ночные фонари автотрассы в точном порядке проносятся мимо моего носа.
Руки обнимают рюкзак. Тубус с бумагами сжимают ноги. На руках следы краски. Сегодня преподаватель учил нас приёмам композиции при написании интерьера.
Напротив меня сидят Сидни Джонсон и Терри Кейдж. Обычно мы с Сидни держимся вместе, пусть ей и четырнадцать, но мы подружились. Больше я никого не знала со своего квартала. Мать сказала, чтобы я держалась вместе с ней, ещё когда первый раз сажала меня в автобус. Уже два года прошло.
Сидни о чём-то шепчется с Терри. Обе смеются. Терри – она недавно начала брать уроки фортепиано – изредка поднимает на меня глаза. Делаю вид, что не заинтересована их беседой. Пожилая женщина рядом со мной похрапывает. Ненавижу парные сидения, развёрнутые друг к другу, ибо весь автобус видит меня.
На глаза давит усталость. Морщу лоб и растираю рукой, но мышцы так и не расслабляются, словно их гвоздями прибили в том положении, в котором они сейчас находятся.
Автобус резко тормозит на светофоре, я вздрагиваю и чуть не роняю рюкзак. Шапка надвигается мне практически на глаза, которые я прикрепляю к лицу Терри, что теперь в упор смотрит на меня с презренной улыбкой. После же она поворачивается к Сидни и начинает морщить лоб. Её лицо выглядит таким глупым с этим полуоткрытым рыбьим ртом, что я…
– И ещё вот так делает. – Терри хлопает глазами на веснушчатом лице. Сид мельком бросает на меня взгляд и смеётся в ладошку. Внутри меня что-то разливается. Что-то горькое и холодное заполняет живот. – Больная.
Они смеются и продолжают гримасничать. В чёрном окне я вижу свою остановку.
Когда я встаю с места и быстро бреду к выходу, никаких слов не вырывается из моего рта. Как и в мой адрес, ведь обычно мы прощаемся. Протискиваюсь между мужчиной в коричневой дублёнке и женщиной в шубе, оказываюсь на платформе. Снег тихо падает на асфальт. Прямо у фонаря он похож на комаров, которые танцуют на его свету летом.
Я не смотрю на те места, где сидят кривляющиеся девочки. Разворачиваюсь и с хрустом по снегу иду в сторону своего дома. Дыхание застывает в воздухе холодного февраля. Шапка давит на лоб, мне сильно хочется её сбросить, так напряжена мимика. Несколько раз высоко поднимаю брови, и становится легче.
Дома родители – на тот момент я ещё могла их таковыми считать и называть – как всегда заняты чем-то, но, видя меня, так незаметно и тихо вошедшую в свою комнату, отвлекаются. Пока я раздеваюсь, мама молча смотрит, растирая рукой подбородок в своём красном фартуке. Я молчу. Мне не хочется говорить.
Снова глаза сковывает, я снова морщусь. Мать говорит, чтобы я шла мыть руки и садилась за стол. За приёмом пищи я наблюдаю за братом и думаю о Сидни. Давно ли она так сблизилась с Терри? Они же никогда не дружили. Что я сделала, что они начали пародировать меня? Почему моё нервный тик на фоне стресса и перенапряжения – такая большая потешность? С утра мы всю дорогу смеялись с Сидни над манерой общения одного из учителей, ничего плохого не было…
Меня треплют за рукав. Отрешаюсь от размышлений. Глаза матери строго смотрят на меня.
– Ты меня вообще слышишь? Что с тобой? – я не могу ответить, потому опускаю глаза в тарелку. Она так быстро опустела. Когда я успела всё съесть?
– Я наелась, – говорю я, вставая. Руки с тарелкой немного дрожат. Поскорее бы уйти в свою комнату.
– Врёт она, мам, – подаёт голос брат. – На самом деле она б ещё две порции таких сожрала.
Искоса бросаю в него грозный взгляд. От каждодневных издёвок над моими привычками стресс и напряжение лишь усиливаются. В горле першит, я чувствую, как образуется комок – дурной знак.
Так тихо, что слышно, как часы тикают. Стены давят на меня.
– Говори же, ну, – требует ответа мать, и тут я ломаюсь. Первая судорога пробегает по моему десятилетнему телу. Первый всхлип рикошетит от стен.
– Начало-ось, – тянет брат и выходит из-за стола. Главный нытик семьи считает меня нюней и избегает подобных сцен. Я не люблю показывать свои слёзы. Я редко плачу. Возможно, это странно, но в детстве я практически не плакала, я была сильной. Сильной, такой сильной…
Но сейчас я стою в столовой с тарелкой в руке, которая умывается моим слезами, что и мыть не надо, всхлипы душат меня. В спине странное чувство, которое возникает у меня с тех пор каждый раз, когда я плачу, над фильмом или чем-то действительно плохим, чувство, которому мне сложно подобрать название. Это как будто находиться в ледяной воде, которая колет тебя, или на пронизывающем зимнем ветру, или быть на свету в темноте. Странное чувство. Холод. Желание спрятаться за чем-то. Закутаться в одеяло. В одеяло из чьих-то рук. Одиночество. Потерянность.
Слова родителей эхом доносятся до меня. Я стою, как на допросе, перед сидящими ними, судьями. Ногти впиваются в кожу на ладонях.
– …они д-дразнили м-меня… с-с-м-меялись надо мной. С-сидни ухмыл-лялась… – еле-еле образовываю слова, пытаюсь унять стук зубов. Мне холодно. Ужасно холодно. – …я-я им н-ничего не сделал-ла, а о-они…
Резкий взгляд матери заглядывает мне в глаза, рука ложится на плечо.
– Скажи Сидни, что она двуличная! Вот возьми и скажи прямо в лицо! – даёт мне наставления мать, понимая, что я не исполню их в силу своей застенчивости и скромности. Уже тогда у меня были все симптомы «удобного человека».
– Позвони её матери, – говорит отец, убирая со стола. – Я же завтра проведу беседу с самой Сид.