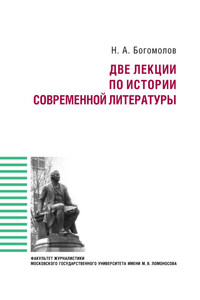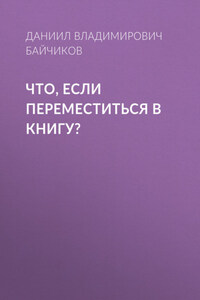Литературный процесс в советское и постсоветское время
Недавно отмечавшееся двадцатилетие начала перестройки в Советском Союзе обострило воспоминания о том, что было как будто бы вчера, а на самом деле отделено уже значительным историческим промежутком. Массовое сознание, подогреваемое различными средствами столь же массовой информации (а если вспомнить классический термин советского времени – и пропаганды), видит в обществе брежневско-андроповско-черненковской эпохи едва ли не идеал и высшую степень исторического развития. Согласно этой точке зрения и в политике, и в экономике, и в науке, и в социальном, и в культурном отношении Советский Союз создал уникальный образец выдающегося общественного строя, разрушенный группой заговорщиков, стремящихся к личной власти.
Отнюдь не ставя своей задачей полемику с подобными мнениями, постараемся тем не менее показать на очень малом и представляющемся для политики, экономики, и пр. совершенно незначительном секторе, подлежащем нашему вниманию, что произошло с русской прозой последнего пятнадцатилетия ХХ века и первых лет века XXI, поставив в центр внимания процессы, происходившие не в собственно творческом сознании писателей, но скорее те, которые являлись и являются внешними регуляторами литературного процесса, обеспечивают его функционирование. Писательское сознание по сути своей есть вещь абсолютно индивидуальная и принципиально противящаяся совмещению с другими. Писатель (причем писатель любой «категории») абсолютно уверен в собственной уникальности и нетленной значимости для национальной культуры. Даже порождая откровенную халтуру, он или не осознает этого, уверяя всех окружающих и самого себя в первую очередь, что на деле выполняет культурную функцию чрезвычайной важности, или же полагает, что это лишь отходы его основного производства, нечто вроде ситуации с М. Булгаковым, который за десять минут писал фельетон в «Гудок», получал за него гонорар и отправлялся домой писать «Белую гвардию». Потому исследование современного литературного процесса, как правило, предстает в следующих вариантах: анализ писательской индивидуальности в ее неповторимости; анализ некоторых тенденций, чувствуемых критиком в литературной современности, иллюстрируемых примерами из практики некоторых писателей, объединяемых по критическому произволу; анализ жанровый и тематический, иногда перерастающий в суждения о больших группах литературного материала (особенно применительно к массовой литературе). Ответственные же суждения о реально существующих закономерностях литературного процесса, как правило, оставляются до будущих времен, но и в них они не становятся идеальными: или используются уже готовые схемы, заимствованные из автохарактеристик и характеристик критических, или же выбираются тенденции, никоим образом современниками не предусмотренные. Все это, с одной стороны, либо размывает характеристики литературного процесса, подменяя их взглядом сугубо извне, либо, наоборот, утверждает продиктованные самими писателями схемы.
Мы же будем стараться взглянуть на историю последнего двадцатилетия русской литературы как на историю, с одной стороны, литературных институтов, решительно перестраивающихся в это время, а с другой – на попытки институализации новых принципов развития. Дело в том, что литературный процесс, как нам представляется, является образованием более сложным, чем просто совокупность изданных произведений изящной литературы, а включает в себя еще многие факторы, с литературой связанные лишь опосредованно. Не претендуя на полное перечисление и на исчерпывающую систематизацию, назовем наиболее заметные принципы внешней организации традиционного для русской литературы ХХ века литературного процесса (не касаясь собственно политических факторов, вполне активно и последовательно изучаемых на основании не только свидетельств современников, но и публикации многочисленных документов разнообразных руководящих и карательных органов).
1. «Толстые» литературные журналы, на протяжении приблизительно 150 лет служившие основным местом публикации художественных произведений (начиная приблизительно с «Библиотеки для чтения» Сенковского), но помимо этого обозначавшие еще и весьма отчетливо выраженные политические, идеологические и эстетические позиции. В этом отношении не было принципиальной разницы между некрасовским «Современником», катковским «Русским вестником», брюсовскими «Весами», «Красной новью» Воронского, кочетовским «Октябрем» или «Знаменем» времен Бакланова. Все они тем или иным образом ранжировали литературный процесс, внятно (по условиям своего времени) обозначая те ориентиры, на которые держат курс в общем движении, и, соответственно, отбирая те произведения, которые могут в данном отношении выявить общую направленность журнала. А литература, в свою очередь, не только формировала журнальный облик, но отчасти и сама подстраивалась под заданные параметры. Не говоря уж о том, что было написано под влиянием отчетливо выраженного «социального заказа» (особенно явственно выраженного, конечно, в годы советской власти, начиная со второй половины 1920-х годов), само стремление писателя опубликоваться, скажем, в «Новом мире» Твардовского или в уже упомянутых «Весах» определенным образом заставляло его настраиваться на те идеальные ориентиры, которые виделись редакции и каким-то образом трансформировались в сознании автора. С особенной силой, конечно, очевидно это в творчестве писателей не первого ряда. Скажем, Александр Тиняков, мечтавший попасть в «Весы», настолько был зачарован этой целью, что слепо последовал указаниям Брюсова: «Я – то разъезжал по России в качестве революционного деятеля; то сжигал себя на медленном огне Сладострастия и любви к Женщинам; то кружился в вихре бешеных дней отчаянного пьянства; то бросал все и всех и среди бесконечных деревенских равнин прислушивался, как лед Одиночества окутывал мою душу…»>1 Но и по воспоминаниям писателей, связанных с «Новым миром» времен Твардовского, чувствуется, насколько сжигало их желание создать нечто, удовлетворяющее идеологическим и эстетическим критериям журнала, чтобы быть там принятыми.
2. Весьма существенную роль в связи с этим играла литературная критика. Не случайно среди «властителей дум» русского общества (преимущественно, конечно, той его части, которая со временем кристаллизовалась в интеллигенцию) были не столько Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, сколько эти (и, конечно, не только эти) писатели, воспринятые сквозь оптику Белинского и Чернышевского, Писарева и Михайловского. Нам даже представляется, что «руководящая роль коммунистической партии» в вопросах культуры также была связана с могуществом традиционной русской литературной критики: незабвенный доклад товарища Жданова в 1946 году или выступления Н. С. Хрущева на «встречах с творческой интеллигенцией» начала 1960-х весьма напоминают статьи не самых талантливых критиков или беседы в редакции какого-нибудь «Русского богатства», только приобретающие статус догматически обязательных не по свободному выбору читателей, а под давлением директивных органов. В дальнейшем это кристаллизовалось в форме различных резолюций, постановлений и тому подобных документов. Если это наше суждение может показаться все-таки преувеличением, то вряд ли подлежит сомнению, что критические выступления Л. Авербаха, В. Ермилова или А. Метченко, особенно подкрепленные статусом печатного органа, где они печатались («На литературном посту», «Правда» или «Коммунист»), не выходя формально за рамки литературной критики, фактически приобретали характер обязательный, и степень обязательности зависела только от двух факторов: от достигнутой всей страной степени подчиненности тоталитарной машине – и от колебаний линии партии, поскольку руководящая статья могла в любой момент быть дезавуирована или прямым указанием сверху или другой подобной же, заказанной другому автору или даже (что в известном отношении было еще серьезнее) не подписанной вообще.