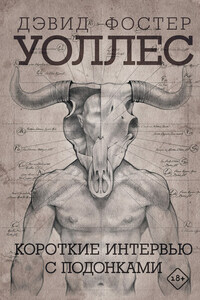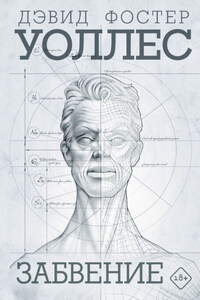Этой ночью, ровно в три часа, убили президента Кеннеди. Юнга Хьюстон и два других новобранца ещё мирно спали, а по свету уже разлетелись первые сообщения. На острове было небольшое ночное заведение – полуразвалившийся клуб с большими крутящимися вентиляторами на потолке, барной стойкой и автоматом для игры в пинбол; двое морпехов, что держали клуб, зашли к салагам, растолкали и рассказали, что стряслось с президентом. Они, эти двое морпехов, сели с тремя матросами на койках в бараке из гофрированного железа для временно расквартированных военных и стали пить пиво, наблюдая, как с кондиционера в консервную банку сочится по капле вода. Армейский узел связи на базе в бухте Субик не умолкал всю ночь, передавая сводки о загадочном убийстве.
Теперь было уже позднее утро, и юнга Уильям Хьюстон – младший опять понемногу трезвел; он продирался сквозь джунгли острова Гранде с позаимствованной на время винтовкой двадцать второго калибра наперевес. Поговаривали, здесь, в окрестностях военного пансионата, водятся дикие кабаны, – а на Филиппинах он пока только и видел, что этот самый пансионат. Хьюстон не отдавал себе отчёта, что он думает об этой стране. Просто хотелось поохотиться немного в джунглях. Кабаны-то, как говорили, бродят где-то совсем поблизости.
Ступал он осторожно, помня о змеях и стараясь не шуметь, потому что хотел услышать кабана прежде, чем тот на него набросится. Нервы у него были на взводе, и это Хьюстон тоже прекрасно осознавал. Повсюду вокруг на все десять тысяч голосов перекликались джунгли, с берега доносились крики чаек и отдалённый шум прибоя, а если замереть на месте и с минуту прислушиваться, то можно было уловить, как в разгорячённом теле мерно тикает пульс, а в ушах потрескивает стекающий пот. Если же простоять без движения ещё хоть пару секунд, то сразу подлетали насекомые и с зудением принимались виться у головы.
Хьюстон прислонил винтовку к чахлому банановому стеблю, снял с головы повязку, выжал, отёр лицо и ненадолго остановился, отмахиваясь тряпкой от комарья и рассеянно почёсывая в паху. Неподалёку сидела чайка и, как казалось, вела сама с собой жаркий спор: сначала раздалась череда протестующих скрипов, а ей наперебой – возражение в виде более низких возгласов: «Ха! Ха! Ха!» А потом матрос Хьюстон заметил, как что-то перемещается с дерева на дерево.
Не сводя взгляда с точки среди ветвей гевеи, в которой засёк животное, он потянулся за винтовкой. Вот оно снова шевельнулось. Теперь стало ясно, что это какой-то вид макаки, немногим крупнее собачки-чихуахуа. Определённо не дикий кабан, но всё же и тут было на что посмотреть: левой рукой и обеими ногами она уцепилась за древесный ствол и с раздражительной суетливостью расковыривала тонкую кору. Матрос Хьюстон взял тощую обезьянью спину на мушку. Потом приподнял оружие на пару градусов и прицелился макаке в голову. Без каких-либо раздумий надавил на спусковой крючок.
Обезьянка распласталась по стволу, исступлённо раскидывая в стороны конечности, а затем завела обе руки назад, словно хотела почесать себе между лопаток, и свалилась на землю. Матрос Хьюстон с ужасом наблюдал, как она бьётся в конвульсиях. Вот макака взметнулась, оттолкнувшись рукой от почвы, и присела, опершись спиной о ствол и вытянув ноги перед собой, будто хотела отдохнуть после тяжёлого рабочего дня.
Матрос Хьюстон подобрался на несколько шагов ближе и с расстояния всего в пару ярдов увидел, что мех у обезьянки очень блестящий, красновато-коричневый в тени и светлый на солнце, в зависимости от того, какое положение примут шевелящиеся сверху листья. Макака огляделась по сторонам и принялась судорожно глотать воздух, а животик её с каждым вдохом поразительным образом раздувался, прямо как резиновый шарик. Стрелял-то Хьюстон снизу, и пуля прошила брюшную полость.
Он почувствовал, как его собственный желудок разрывается надвое. «Твою бога душу мать!» – крикнул он макаке, будто та могла как-то изменить своё досадное и отвратительное положение. Он уже думал, что вот сейчас у него взорвётся мозг – если предполуденная жара так и будет выжигать вокруг все джунгли, если чайки так и будут орать, а обезьянка – осторожно оглядываться по сторонам, вертеть головой и вращать с боку на бок чёрными глазками, точно следя за ходом какого-то разговора, какого-то спора, какой-то борьбы, которую все эти джунгли, всё это утро, весь этот миг вёл с самим собой.
Хьюстон подошёл к макаке, опустил винтовку рядом с ней на землю и поднял зверька двумя руками, одной поддерживая зад, а другую подложив под голову. С восхищением, а потом с омерзением понял он, что обезьянка плачет. С каждым выдохом из горла вырывался всхлип, а когда макака моргала, из глаз струились слёзы. Она смотрела туда-сюда и, кажется, человек занимал её ничуть не больше, чем всё остальное, что она видела вокруг. «Эй», – позвал Хьюстон, но обезьянка, похоже, ничего не слышала.
Он держал зверька на руках, и вот сердечко наконец перестало биться. Встряхнул макаку, но знал – это бесполезно. Почувствовал, что во всём виноват он сам, и, поскольку рядом никого не было и никто бы его не заметил, Хьюстон дал волю чувствам и разрыдался – как ребёнок. Да он и был, в сущности, вчерашним ребёнком: ему было всего восемнадцать лет.
Когда Хьюстон вернулся на побережье, к клубу, то увидел, что на серый пляж выбросило прибоем косяк прозрачно-фиолетовых медуз – несколько сотен студенистых созданий, каждое – примерно с ладонь, лежало на солнце и постепенно ссыхалось под его лучами. Маленькая островная гавань пустовала. Никакие лодки сюда не ходили, если не считать парома от военно-морской базы на другом берегу бухты Субик.
Всего в нескольких ярдах, фасадами к песчаной полосе, под величественными деревьями стояла пара бамбуковых хижин – с веток им на крыши осыпались мелкие лиловые цветочки. Изнутри одной доносились крики: какая-то парочка занималась любовью – шлюха, предположил матрос Хьюстон, и какой-нибудь моряк. Хьюстон присел на корточки в тени дерева и слушал, пока они не перестали хихикать и громко дышать, а из-под застрехи не подала голос ящерица – сначала прозвучал короткий предупреждающий щебет, а затем резкий, отрывистый гоготок: «гек-ко»; «гек-ко»; «гек-ко»…