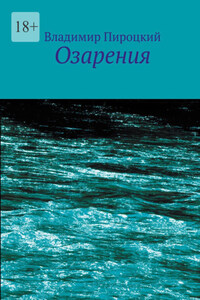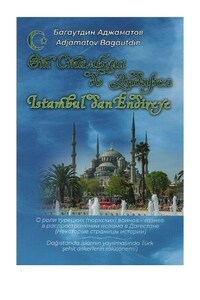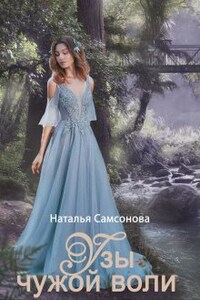Мы уже привыкли почти.
Всюду морок непонимания.
Настоящая боль и беда
придут без стука,
без напоминания.
Зима, белый снег, а в пять уже сумерки.
Будто солнце украли! Сыграем в жмур ки?
Всё путем, но дайте немного солнышка!
Нельзя же так, я не просто устал, а дошел
до донышка.
Эх, тоска без душевных слов,
без правды глаза в глаза.
Неуютно и холодно врать,
да бояться не то сказать.
Не спасает уже молчанье – без души,
равнодушное, гордое.
Как веревка над пропастью,
тлеет шнуром бикфордовым.
Ох, как надоело быть добрым,
простым и внимательным.
Улыбаться и прятать свой взгляд,
чересчур проницательный.
Кого-то случайно обидеть – легко!
Задеть, самому вдруг обидеться.
Лучше, ну их подальше, ты знаешь куда,
чтоб никогда не видеться.
Зубы сжать свои, в горло кляп,
до предела напрячь желваки,
чтоб не дай Бог чего.
Спрячу глубже свои чугунные кулаки.
Неудобно и глупо быть просто честным,
когда взгляд напротив, зашорен местью.
Всем подряд! За его дурацкую молодость.
Жизнь, овчинкой, как мордой об стол, съёжилась.
За свои неподдельные страдания.
За своё мучительное непонимание.
Его злые чужие глаза
наполнены гневом и страхом.
Они бьют поддых и грозят
весь мир перетра@ать.
Всех готов он смешать в клубок,
своего и чужого,
Плюнуть первому встречному —
хуже выпада ножевого.
А кому и за что, по какому праву?
Без раздумий, топор злословия падает!
И хотя б на минуту ему, вроде, становится легче.
А дальше снова тупик. Ничего не радует.
Откуда ты взялся, куплет озорной,
бесшабашный?
Тебе подпевает проснувшийся морок
вчерашний.
Карточным домиком жизнь рассыпается,
Ничего хорошего не начинается.
На пути осколка оказался кто-то,
брызнули слезы.
Теперь он затих, лежит в неудобной
живому позе.
Кровь густой кока-колой течет
из пробитого пулей пластика.
И собака взъерошенная скулит
к нему безнадежно ластится.
А ему нормально и клево,
уже ничего не важно,
Пусто там, где мысли терзали.
И как-то влажно.
И не жалко ему себя,
тихой осыпью мимо ползут вагоны.
А душа еще здесь? Или где-то там,
в созвездии Ориона?
Эта рваная рана, теплый еще,
беззащитный комочек,
Лишь мгновенье назад был живой,
а теперь ничего не хочет.
Он был частью, лишь долю секунды назад,
вселенной,
Она так хотела быть единственной, живой,
бесценной.
Невозможно вместить, неужели вселенная
навсегда распалась?..
Столбняком безнадежным ответ, —
Ничего не осталось…
А тот, который напротив…
Пусто в его глазах.
Поэтому надо быть терпеливым,
он, нехотя, может не то сказать.
Он не видит меня,
открытыми настежь глазами,
Не понимает, зачем ему это всё,
сейчас рассказали.
Взгляд его оглушён
невозможностью видеть.
Подходи, если хочешь рискнуть,
попробуй его обидеть.
Ветер колет настырно щёки
Дым горчит, выедает сердце.
Дико танцует хохочущий грязный Джокер,
Где-то смеется и скачет случайное скерцо.
Взрыв и огонь! Покорежены плиты бетонные,
топорщится арматура,
Непоправимо и грубо кем-то оборвана
музыка – архитектура.
Отражается капля мира
в дымящемся зеркале гильзы,
латунно-блестящей.
Кто-то взял себе право решать и карать,
будто он настоящий.
То, что было мгновенье назад
трепетным чувством, мыслью,
живым дыханьем,
Запеклось неизбывным горем, загублено
грубым огня полыханьем.
И уже где-то там между Ригелем и Бетельгейзе,
в созвездии Ориона,
плачет, с нами навечно,
страдающая Мадонна.
Вечно усталые жители, пассажиры метро,
глядят тревожно.
Что это там за звук? Бежать?
Сдвинуться невозможно.
Но нет, повезло пока,
облегченно выдохнули и вздохнули.
В кого-то другого, там далеко, вошли
звенящие пули.
Скользко и тошно, боком иду, потерянный,
сбита резьба и мера.
Слезы высохли в горле давно…
Какая там, к черту, вера?!..
Кажется, пусто в груди и
тоска неизбывная выиграла.
Но неужто и впрямь, душа умерла,
начисто выгорела?
Земля ползет змеей из-под ног.
Навзничь! Бьёт, чужая и неуместная.
Жалит, бьется, зудит звонок,