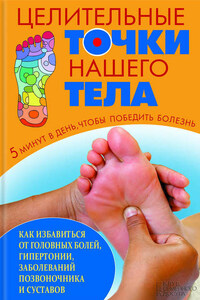В темноте длинных коридоров, петляющих и сворачивающих в самых немыслимых местах, в тупиках и неизведанных пространствах этажей, покрытых пылью и изъеденных грибком, послышалось жужжание и глухое потрескивание, Здание, наподобие мощной турбины, тяжело вдохнуло-выдохнуло, мглу разорвало голубым лучом, яркий искусственный свет полоснул по кабинетам и табличкам, – просочившись в наиболее отдаленные уголки, разбудил служащих, прислуживающих и подслуживающих, оживил всевозможные отделы и ведомства, единственное наружное давно не мытое Окно перелилось из мутно-фиолетового в бутылочно-осколочное… и, наконец, повсюду зажглись режущие глаз многочисленные огни.
Начался обычный трудовой день.
Просыпающиеся, зевающие, суставно-хрустно потягивающиеся чиновники одного из подразделений вяло перекладывали бумаги с места на место, сонно обменивались репликами и делились ночными впечатлениями.
– Представляете, мне снилось, что за нами есть жизнь! – оторвавшись от загроможденного бумагами стола, произнес потрепанный приказный крючок с чернильной душой и крапивным семенем на лице.
Он жизнерадостно хрустнул корешком позвоночника, выпрямился, и ворох желтых, замызганных листов, составлявших его костюм, словно крылья изготовившейся к полету птицы, нервно затрепетал. Служащий попытался воспарить, но лишь скорбно вздохнул и в который раз в своей жизни безвольно склонился над столом. Через мгновение отпрянул и закашлялся: мрачная тень упала на тушку чернильницы, внутри которой показался сочный никотиновый червь – жирный белесый окурок с солнечной каймой и остатками света «…Lights».
– Полноте, Словник, рожденный ползать – упасть не может… Радуйтесь хотя бы этому… – булькнул отечный субъект в глянцевом переливающемся костюме, восседавший за перпендикулярным столом. Выдув в потолок два кольца – одно в другое, – он перегнулся через стоящий около забитой окурками держательницы для перьев покосившийся картонный трехгранник, на котором жирным курсивом значилось: «Тезаурус. От А до Я», – сдул с него пыль, стряхнул пепел с сигареты в чернильницу Словника и выжался из-за стола.
– Все вы со своими шуточками, Тезаурус, – вознегодовал Словник. – Но ведь хочется, понимаете? Хочется.
– Здание – единственное разумное образование. Если и возможна другая жизнь, то только в другом подобном Массиве, – размеренно вышагивая по кабинету, будто ставя жирные точки, отозвался Тезаурус.
– А как же Окно? Вероятно, Оно и ведет нас в мир Иной… – не сдавался Словник.
– Окно есть фотообои. И любое кажущееся нам проявление жизни за Ним – иллюзия. Вам ли не знать, что Все, творящееся за Ним, лишь плод фантазии мастеров кутюрного цеха? – Тезаурус помедлил: – И да будет вам известно: Заоконье полностью принадлежит Зданию.
– Жаль, – огорченно молвил Словник. – Приятный, нет, я бы даже сказал, удивительный был сон. Свобода! Полет! Фантазия!
– Вам что, у нас не нравится? – Тезаурус перестал чеканить шаг и остановился. Задушил-раздавил никотинового червя в чернильнице коллеги.
Словнику показалось, что на него уставилась жирная клякса – средоточие всех каллиграфических бед. Казалось бы, стоит перед ним уважаемый работник печатного цеха, в котором таится вся информация Здания от «А» до «Я»: математика и поэзия, аксиома и ямб, а приглядишься – ничего-то за ним, кроме азбуки ярыжничества, и нет. Мелкий чинуша, паяц, запойник, возомнивший, что знает о Здании больше, чем Оно собой представляет, и потому наделивший себя правом вот так язвительно отзываться о самых сокровенных мечтах, подрезать крылья на стадии оперивания.
Словник, отгоняя тяжелые мысли, мотнул бумажной головой, скорбно сложил руки и превратился в тонкую беспомощную брошюру-замызгыш.
– Сложно сказать, – процедил он, – просто жизнь у нас неестественная какая-то, лежалая, непроветренная, что ли. Я в Здании достаточно давно, но смысла своего существования так и не постиг: исправление ошибок, стилистическая правка… А зачем? Кто это все читает? Кому это нужно? И вообще… – Словник сделал продолжительную паузу. – Вы чувствуете, как у нас тут затхленько, заляпано да изгваздано? Жизни нет. По правилам живем, по написанному, по неискореняемому.
– Милый Словник… Вы просто не выспались или не проспались, – с несвойственной ему мягкостью произнес Тезаурус и пунктирно задвигался по кабинету, отчего было крайне сложно воспринимать то, что он говорил. Он то подлетал к двери, то возвращался, то останавливался около пыльного стеллажа со словарями и емкостями и, жадно облизываясь, смотрел на полу-пустую бутыль ализариновых[1] чернил, стоящую около лазерных искрящихся банок, по цвету и форме напоминавших шампанское в пузатых бокалах, то вдруг подбегал к неполированному обшарпанному столу с тумбой, нагибался, озабоченно дергал ящики и нервно приговаривал: «Не тут, ах, не тут… Где же он, гранями сверкающий?..» А то подолгу зависал над мудреной мыслью и комкал ее одной фразой, придавая словам только ему одному ведомые значения.
– Вы еще молоды, ох как молоды… Куда же он запропастился?.. Ну и запах!.. Язычники мы, язычники… чинодралы… бражники… А, во! – облизнув потрескавшиеся губы, воскликнул Тезаурус и разогнулся. Ногой задвинул нижний ящик тумбы. В руках у него сверкнул стеклянный цилиндрический сосуд в мутноватых потеках. Тезаурус направился к стеллажу, залихватски дыхнул в стакан, вытер его сияющей от каждодневной борьбы с антисанитарией полой пиджака, снял полуполную бутыль чернил и плеснул на пять пальцев – стакан наполнился до краев.
– У? – предложил он Словнику.
– Эх, давайте, – обреченно согласился тот, направляясь к стеллажу.
– Так я и говорю… – продолжал Тезаурус, ревниво следя за коллегой, мелкими глотками вливающим в себя содержимое стакана. Словник допил, икнул, и бусинки хмельной жидкости стекли на воротничок сомнительной свежести. – …Победили ячество да искажения в языке…