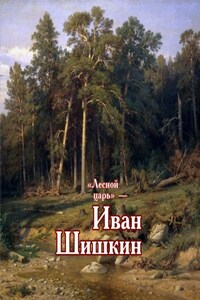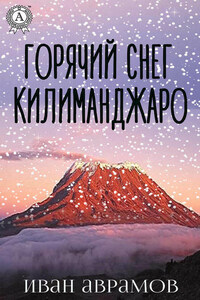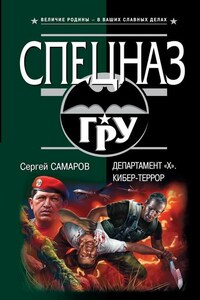Море кипело, пенилось и бурлило, выбрасывая из своих глубин белый холодный дым.
Но неспокойной была не только его вздыбленная равнина – неспокойной была и сама невозмутимая доселе океаническая толща, которая вращалась тяжёлым телом подле хрупкого основания Земли, образованного из пористой окаменелой лавы.
Дремлющая стихия долго молчала, оставаясь неподвижной, словно бы вовсе не замечала того бестолкового шумного мира, что зацепился за её прежнее дно, заботливо выложенное многочисленными слоями осадочных пород, которые она собирала по своим бескрайним просторам долгие миллионы лет.
Человек не слышал сурового голоса разгневанной стихии, но что-то неспокойное и тревожное поселилось и в его душе, будто бы он случайно обронил исключительно нужную для себя вещь и она предательски закатилась в гиблые щели всепоглощающего небытия.
Человек даже не вполне понимал и осознавал свою нечаянную потерю – всё вроде бы оставалось на своих местах, разве что он никак не мог вспомнить, как он когда-то отвечал на неожиданно возникшие перед ним вопросы: для чего жить, что ты умеешь и каков от тебя прок. И куда бы он не взглянул – везде перед ним, как зловещая грёза, пенилось и изрывалось тёмными гибельными валами бушующее море. Он внимательно смотрел себе под ноги, но так и не замечал того, что потерял. Он заглядывал в своё прошлое, однако там почти невозможно было что-либо ясно различить. Он видел светлые города, залитые солнцем, добрых улыбчивых людей, спешащих к нему навстречу, а, может быть, и нет, просто это ему грезилось тоже – и улыбчивые люди, и светлые города…
Он оглядывался вокруг себя и нервно прислушивался к окружающим, словно пытался уловить малейший намёк на произошедшие вокруг перемены от его злополучной потери.
Но мир по-прежнему беспечно шумел, внешне никак не обнаруживая своего беспокойства, и совсем не помнил, как однажды уже был поглощён тяжёлой водой, пришедшей к нему отовсюду.
А разбуженное море пело, но не злыми голосами диких сирен, а всей своей взволнованной массой, твёрдо решившей прирасти неблагоразумной землёй. Его грозная песня, минуя слух, проникала во всякую живущую в воде или на суше тварь, заставляя её озираться по сторонам и глубже заглядывать к себе в душу, чтобы всё-таки вспомнить: для чего жить, что надобно уметь и каков от этого всего должен быть прок.
Человеку порой даже казалось, что он слышит голос моря, поскольку он каждой своею клеточкой чувствовал его приближение, непокой преследовал его, ведь он не мог не догадываться, что это по его вине проснулись тёмные волны, обращённые своей дремучей силой к суетливой земле.
Впрочем, он не особенно корил себя за рассеянность и беспечность, полагая, что во всём повинна его человеческая стая, не придающая значения таким важным вещам, от которых зависит вселенское благополучие и мир.
– Ну что я? – Успокаивал он сам себя. – Сначала я привык к безразличию этой стаи, полностью смиряясь с её равнодушием и безответственностью, затем сам научился быть безразличным, считая себя ничем не обязанным тем, кто не слышит и не замечает меня. Наконец, я и вовсе ощутил себя абсолютно независимым и свободным. Только что-то, пожалуй, я опустил и не заметил, уронил и не оглянулся, раз подобно жуткому наваждению вырастают передо мною тёмные волны, и стелется под ногами белый холодный дым, имеющий солоноватый запах моря.
А голос моря всё креп и ширился, проникал в огромные меха невидимого небесного органа, из которого, многократно усиливаясь, добирался до самых затерянных уголков обречённых материков. Только слов его гремящей песни, приведшей в смятение всю обитаемую твердь, не разбирал никто. Впрочем, теперь всякий мог сожалеть о том, что имеет неабсолютный слух, поскольку была эта песня исключительно о том, как жить, что надобно знать и уметь, и какой во всём этом заключён смысл.
Какая хрупкая и звенящая сушь стояла на всей земле! Знойные травы были чреваты музыкой залётных ветров, а глянцевые, наполненные солнцем, листья таили в себе хрустальные звоны случайных соприкосновений.
У Марина был великолепный голос, хотя отдадим должное всем остальным, не только у него одного. Возможно, так казалось оттого, что стоило кому-нибудь начать песню, как всё окружающее пространство отвечало ему не только чарующим и звенящим эхом, но и подхватывало эту мелодию звонами, переливами, вибрациями своих чутких горячих тел, настроенных как камертон.
Марин пел цветущим долинам, и в плотном, спрессованном жарой, воздухе звуки его голоса доносились до самого неба, где соперничали с ораторией звёзд, вечной и величественной, но медлительной и почти неслышимой из-за громких песен и звучаний земли.
Могущественное небо не могло не замечать, что в песнях земли было больше радости и красоты, чем в привычных его слуху звуках, которыми полнился небесный эфир.
– Зачем земле столько разнообразных и мелодичных песен, – решило небо и послало земле моросящий дождь, медленный и непреходящий, как сама небесная оратория.
Марин по-прежнему пел долинам, утопающим в цветах и травах, только его голос был слышен лишь ему одному. Песня вязла в бесконечной влаге, струящейся с неба, в наполненных дождевой водой травах, в отяжелевших от капель упругих древесных листах… Нельзя сказать, что Марин потерял свой чудесный звенящий голос, как нельзя сказать, что природе не нравился чистый, питающий всё живое, непрекращающийся дождь.
Вскоре туман, наполнивший землю, поглотил любые звуки кроме шума упрямых вод и дробного, настойчивого перестука однообразного дождя. Природа забыла и звонкие песни Марина, и то, как отвечала ему долгим, переливчатым эхом радости и торжества. Природе теперь стали не нужны его песни и его чудесный голос.
Буйная зелень разрослась по всей орошённой земле. Она тянулась всё выше и выше к небу. Но всё равно не могла слышать не только гибнущих во влажном воздухе песен Марина, но и вечной и величественной музыки звёзд, к которым она почти прикасалась своими телами, полными небесной влаги и могучей жизненной силы.