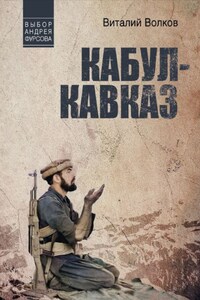Бывало так, что, будучи на даче, Виктор Иванович Волхин по несколько дней подряд не брал телефон в руку, не отвечал на звонки. Исключение он делал в двух случаях – если звонила дочь Светлана или внучка Катенька. Обе – в Москве. Когда дочь еще была крайний раз замужем, супруга Волхин не жаловал, и для него исключения не делал, на звонки не отзывался. Эти трое из семьи были занесены в записную книжку так – Светлана, Катенька, Артист. На даче Волхин проводил большую часть жизни, в город-Новгород выезжал по необходимости – за квартирой присмотреть и, изредка, если мастерам-реставраторам требовался его совет, как в храме правильно витражное стеклышко разместить или чеканку на решетке подправить. А храмов в Новгороде – что боровиков в Боровичах. А так – труды праведные по саду, пока свет есть, а жары или стужи – нет. И другое личное – с резцами ли в обеих руках, то в правой, то в левой, чтобы не терять прежней «обоюдорукости», или за холстом, с кистью. Или просто так, у окна, либо на террасе, а то и у самой реки, в молчаливой созерцательности всего того, что вокруг него разлилось, рассиялось или, напротив, спряталось под снегом.
Иное дело – вечером. Вечер – это когда свет тихо гаснет, но еще не потух. Вечер – это книга, это старая газета. Сосед-рыбак обнаружил на своем чердаке целый газетный архив советской печатной продукции – там и «Известия», и «Комсомольская правда», и бесценные журналы «Советский экран» с нормальными красивыми тётями без сережек в носу и зеленых волос, с дядями, похожими на мужчин. Гафт. Еременко. Юматов… Не то что Артист… Журналы сосед отдавал неохотно, а газет не жалел…
Да, под треск дровишек в камине усесться в кресле, еще дедовском кожаном кресле. Устроиться, как в детстве, и читать, дремать, шелестеть бумагой. А по ночам – размышлять. Ночь – пространство свободного полета памяти. Для воспоминаний и размышлений. О чем же Волхин размышляет вечерами, сидя в старом скрипучем кресле? К примеру, вот о чем: зачем мазками масла переносить на холст то, что подсмотрел в мироздании, если «то», что сходит с кисти, и без нее уже есть? Вопрос древний, как зрачок человека. И все-таки? Со-творчество с Ним самим? Гордыня? Или другое? Инстинкт и миссия установления связи материального с нематериальным? Но что тут тогда материя, а что – дух? И что – тщеславие? А что, если вечность на холсте – это бегство от конечного, от смерти? Или способ спрятать себя от одиночества, щедро дарящего время дня, и занять его тем, что принято считать осмысленным? То есть смысл – он сжирает время, и только? И так – до бесконечности. Интеллект вечерами плодит вопросы-ответы, передает их в ночь по цепочке, от одного к другому, а сон замыкает их в бензольные кольца вплоть до следующего утра… Сон – больше не товарищ, сон – химическая присадка. И к неизбежному столкновению с собственным освобождаемым сознанием с некоторых пор Волхин относится с опаской.
Бывает и другая ночная дорожка. Так сказать, общественная. О том, что было в прошлой, прежней стране, хорошо думать, когда день позади, и в натертых зрачках еще колеблются солнечные блики на тихой воде, а то и на снегу, волнами разложенном по гладкому льду долгим ветром, дующим с Ильменя. Ветер свистит, проникая под обшивку крыши. Радио подпевает ему ритмами прежних лет. Лет – нет. Есть ковер собственной жизни. Узоры разные, а ткань одна.
У Волхина имеется и телевизор, только он давно молчит и покрывается патокой. Пульт от телевизора – на дальней полке. Хозяин с недавних пор телевизор не жалует. Включит – а оттуда стужа врывается в тихий дом, в обжитой мир, где щели заткнуты старыми советскими печатными изданиями. Ворвется стужа с колючим вихрем. Будто метель из гвоздей гонит оттуда какой-то лохматый черт. Зачем это? Кино? Серия? Шоу с воплями и плясками… Бубны, кольца в носу, зеленые патлы? И все бы ничего – только тут еще и война… Тут уж – никаких цепочек. Никакого сна. Беда. Поэтому телевизору дана отставка. Только газеты, пахнущие пылью и свинцом. И радио в машине, а она все реже на ходу.
Долгое сухое августовское утро приближалось к полдню, когда Волхина от дел отвлек звонок. День обещал быть знойным. Мужчина вздохнул, отложил новую кисть, которую обтачивал наждаком (кисти он мастерил сам), потер колено и поднялся за трубкой. Не дочь ли? Нет, не дочь. И все-таки он ответил, разобрав на дисплее слово «Лев».
Слышно было так плохо, что Волхину пришлось едва ли не орать. Дочь в таких случаях говорила, что ему и телефон не требуется, в Японии и на Ямайке его командный голос и так услышат… Пускай ужаснутся, отвечал ей он. А звонок был и впрямь издалека, не с Ямайки, конечно, а из Тверской губернии. Вроде бы Тверь от Новгорода не за тридевять земель по российским-то меркам, а только Саша Львов в такую ее, этой самой Тверской губернии, глушь забрался, в такие леса, что слышимость – как из берлоги медвежьей, что там Япония… Деревня Рютино, банзай ее за хвост. Три десятка домов – всё Рютино… Вышка далеко, ну а расстояния нынче и в России меряют не в километрах, а в плотностях вышек связи.
Виктора Ивановича Волхина не связывали со Львовым ни родственные отношения, ни увлечение живописью, к которому человек из тверской глуши не имел никакого касательства, ни общие взгляды на жизнь и происходящее в мире, что предполагало бы увлекательные беседы и совместную выпивку. Нет, в те редкие дни в году, когда Волхин выбирался из своего Новгорода и навещал отшельника, оба по большей части молчали… Сядут друг напротив друга в рютинской избе, хозяин водрузит самовар на тяжелый самодельный стол. Стол – на белых березовых ножках, расставленных немного вбок, как ножки у теленка. Самовар, узбекские пиалы с синей глазурью, гренадерская (Львов и называет их «хренодерами») пятилитровая бутыль с рукотворным самогоном – таких на стеллаже целый взвод, на грудь четвертой рассчитайсь… Ветчинка, хлебушек-самопек, рыбка – вяленка, с золотой икрой. Сядут и молчат с пониманием друг дружки. А о чем говорить? Все говорено уже. Почему все так, как есть? Львов умен и начитан. Всегда был таким. Он во всем видит силу закона истории. Знает ее, чертенок, так, словно всю ее пальцами прощупывал, как остеопат знает хрящи тела. Считает, что всё сущее можно и нужно постичь каким-то особым «пушкинским умом» – не судя огульно, и не «исходя соплями» (тоже его словечки) ни по царю-мученику, ни по «белой», триколорной армии, ни по красным, ни по Ленину, ни по Сталину, – а в то же время тверд в том, что нынешних вороватых чинуш следует ставить к стенке, иначе беда. Не боится наш чинуша тюрьмы, верит он в достоевщину по-своему. В кубышку зарытую верит, как монах в крест животворящий верить должен. Дураки и дороги, которые кормят умных и богатых, спецслужба, ставшая коммерческой организацией, армия, в которой генералов больше, чем майоров, а генеральских дач – чем штурмовиков. Попы, которым и дорог не требуется, чтобы обходить дураков – на это у них были сигаретные акцизы… Все это – историческая последовательность, а не данность, но и не исключительная черта бездарности нынешних правителей.