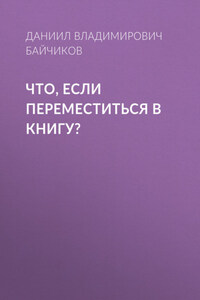Жили мы в деревне третий год, с тех пор как отца прислали сюда работать директором, и своими людьми до конца для местных не стали. Субботним утром отец пришел с работы. Мать сидела в прихожей за столом и монотонно и методично наматывала на палец обрывки ниток красных и желтых шерстяных ниток, связывая их в кольца одинакового размера. Красное кольцо она вешала на ночь на пышный куст шиповника, разросшийся в углу двора, а себе на шею – желтую, а наутро менялась. Саженец шиповника ей привезла из Советской Монархической Республики Болгарии младшая сестра Лена, проходившая там практику в студенческом стройотряде. «Цветы ангельские, а когти дьявольские. А под ним подкустовик обитает, по всем характеристикам положительный, чуть ли не предпартиец даже», – говорила про шиповник мать и часто сыпала под куст хлебные крошки или лила несколько капель вина или чая – вроде как дары приносила. Мелкие крошки, потому что крупными она фаршировала пироги или скармливала их курам.
А так как она была человеком предусмотрительным, то кольца связывала заранее, в свободное время. С левой стороны от матери на столе уже скопилась приличная кучка колец.
– Сегодня самый главный день, – бормотала мать, – темницы рухнут и свобода – нас встретит ежебок у входа и вострубит Илларион о том, что воскресился он! И возрадуются на небе и на земле и горны пионеров Африки, Южной Америки, Китая и Кубы вострубят, как Ангелы Апокалипсиса. Вить, сон мне был вещий, про ежебоков… – начала она, но отец перебил:
– Чего сидите как сурки, по норам забившись? А люди грибы носят! – прокричал отец.
– Грибы? Рано еще, – усомнилась мать. – Может, врут?
– Мешками носят, как коловертыши1, пока вы тут спотыкаетесь как инвалидная команда! – объяснял отец. – В такое время и жук и жаба и еж и белка грибы волокут, чертенята кузовками, а черт всем возом, только вы как лежни по полатям, как злыдни по голбцам2, как хилютычи по горохам.
– Не поминай нечистого всуе! Ты не Захария, кровь коего окаменела в надлежащее время в соответствующем месте.
– Святой пионер3 Илларион тоже во внеурочное время грибы для ежебоков собирал, – прибег отец к последнему средству. – Тем более сегодня суббота – «пьяный день», глаза у всех партийных и предпартийных залиты.
– Понесло козла по кочкам. Вить, я сижу тут, дня белого, свету вольного не вижу.
– Заодно и посмотришь.
– Ты бы, Витя, читал бы лучше Гесиода4, а Апулея5 не читал.
– Я тоже на работе был, – насупился отец, – и не в носу ковырялся, как некоторые неизжитые комлевые бюрократы, а воспитывал в совхозном народе классовое чутье и учил поселян распознавать скрытого матерого подсознательного врага, тайно и неусыпно мечтающего разрушить нашу сельскую пастораль.
– Ты как будто находишься в обстановке равнодушия и городской летней беспечности, а я и так чувствую себя как лошадь на свадьбе, – вздохнула мать.
– Это как?
– Это когда шея в цветах, а жопа в мыле. Я тут уже с утра кручусь, как белка в Туапсе, как Бобик в гостях у Барбоса.
– Бросай свои нитки и пошли за грибами.
– Точно говоришь, не мана ли какая на тебя нашла, не померещилось тебе разом? Али млилко какой тебя обманул? Или проказливый мелкий демон произвел изумительное явление, тебя так поразившее?
– Мешками люди носят! Мешками! Клянусь делом Партии и строительством святого коммунизма! – перекрестился отец.
– Святой Каганович6! Грибы – это лесное мясо. Грибков после троемясицы неплохо бы по кишкам погонять, – задумалась мать, – мамоны7 набить, чтобы Мамону беззаконного позлить, а то если голодными лечь спать, то неоседлые дикие цыгане приснятся. Но грибы надо не абы как собирать, грибы надо на Станислава-грибовика брать.
Мать не мыслила своей (и нашей) жизни без народных примет. Бывало, на все примету найдет, на все приговорку вспомнит. Та еще натура суеверно-мистическая. Верила и в бабий чох и в куриный свист и в вороний выперд. Ужасно, короче, суеверная была, хотя отец и смеялся, что наблюдение примет есть особый род суеверия. После умывания утиралась лишь красным полотенцем – для здоровья и блеска волос. Если не могла помыть руки перед едой, то трижды дула на ладони, чтобы согнать с них нечистых. Спала только на левом боку, чтобы «придавить проклятого черта». На ночь кочергой окна и двери крестила. Все грядки в огороде были старыми вениками утыканы чтобы от порчи и разгула природных стихий их уберечь. Натирала нам пятки чесноком. Таскала с собой мешочек с пуговицами, чтобы бросать в вихри; и волчий хвост – для защиты от болезней. Когда видела первую весеннюю птаху, то терлась спиною о дуб, чтобы спина была крепкой и межпозвоночной грыжи не приключилось. При первом весеннем громе крестилась и целовала землю.
Бывало, корова молока чуть меньше даст, так мать сразу думала что-то тут не так: либо домовой скотину мучил, либо нечистая сила каверзу какую учинила над животным. Или курица сдохнет, а ей сразу сглаз мерещится. А вот еще опять же голая: как выскочит из дому на огород да из старого горшка каким-нибудь отваром грядку как окатит, что потом баклажаны да кабачки вырастали прямоугольными. Или, было дело, как-то град пошел, так догола разделась, облилась водой под куриным насестом, и три раза вокруг дома обежала, стуча в большую сковородку колокольчиком из-под дуги. И что удивительно сразу град прекратился. Или голышом на кочерге подворье объезжала, чтобы защитить от вредителей полей и огородов. Наряду с прабабушкиным молитвенником она использовала брошюру «Враг не достигнет цели», роман «Граф Дракула, несторианец» и повесть «Легенда о железном бруске» о трудолюбивых металлургах, боровшихся с саботажниками и вредителями. Еще у нее был «Манифест коммунистической партии» в толстой обложке из желтой кожи. Мать, то ли в шутку, то ли всерьез, говорила, что обложка сделана из кожи гауптштурмфюрера8 СС, убитого дедом Егором. В общем, привезенные отцом с заочного обучения из Москвы знания в области марксизма-ленинизма и истории КПСС, мать ловко встроила в свои суеверия и со временем создала вполне логичную картину ожидающего нас вскоре «святого коммунизма». Даже отец ей временами верил, настолько она была убедительной. И не только отец: многие деревенские, убежденные горячим пылом матери, подхватили от нее новое поветрие и стали считать Партию и Советскую Власть святыми.