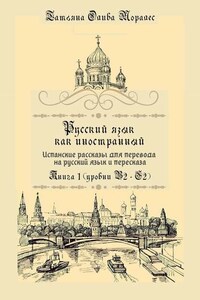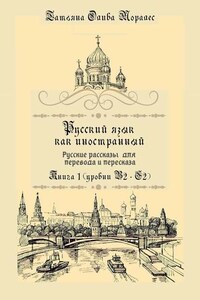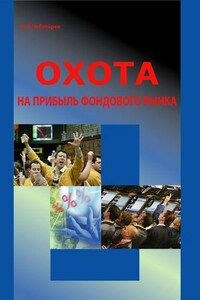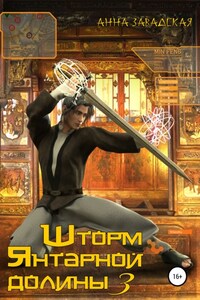От автора
Методологическое введение
Свое творческое кредо Варлам Шаламов нередко формулировал как лаконичный парадокс. Таково одно из его признаний: «Я наследник, но не продолжатель традиций реализма» [1]. Объективно он был и наследником, и продолжателем, что, несколько различаясь в смысловых оттенках, не противостоит друг другу. В высшей степени неблагодарная задача – переносить авторскую характеристику на собственные научные разыскания. Но объективно получилось, что данная монография о Шаламове (по существу вторая часть «дилогии») соотносится с первой именно по шаламовской формулировке, причем в ее буквальном истолковании [2]. Мы по-прежнему утверждаем, что момент истины, заключенный в творчестве писателя (как прозаическом, так и поэтическом), преодолевает границы проблемного поля так называемой лагерной литературы и является итогом напряженнейшего духовно-эстетического поиска. Но в монографии 2010 г. делался акцент на включении «новой» прозы в контекст отечественной словесности, в связи с чем рассматривались художественные стратегии писателя, сопоставляемые (генетически и типологически) с различными источниками: частично с древнерусской агиографией, культурой письма XIII в., творчеством А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, сибирской беллетристикой Н. Г. Чернышевского, а также литературой Русского Зарубежья с выделением «Солнца мертвых» И. С. Шмелева как преддверия «Колымских рассказов». Проводя вышеотмеченные параллели, мы пытались акцентировать то глубинное духовное начало, которое не сводится, говоря словами Пушкина, к «предрассудку любимой мысли». Литературно-художественный контекст «золотого» века российской словесности подтвердил, что речь идет о принадлежности Шаламова к тем авторам, чье искусство определено не узкими идеологическими постулатами эпохи тоталитаризма, но высшими творческими достижениями общечеловеческого звучания.
Все эти вопросы по-прежнему актуальны в наши дни, и, разумеется, проблема соотношения шаламовского творчества с классикой не может считаться исследованной без имен Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева. Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэзии русских символистов, в первую очередь А. Блока и О. Мандельштама, романа Андрея Белого «Петербург» и т. п. Работа в данном направлении уже ведется и отечественными, и зарубежными почитателями Шаламова, но она практически неисчерпаема и осложнена в каждом конкретном случае своими pro и contra.
В самом деле, процесс децентрализации личности, активность крайне деструктивных антропологических моделей, выявленные автором «Колымских рассказов» в экстремальных условиях на экстремальном материале, реально противостоят национальной гуманистической традиции. Но в этом же заключается и великая провидческая сила искусства. Если для современников писателя, особенно для тех, кто разделил с ним его мученическую участь, «колымская» проза – прежде всего уникальный документ, входящий «в большой план, в план искусства» (5, 148), то сейчас более значима не только конкретно историческая, но и метафизическая перспектива преодоления трагического прошлого, необходимость которой писатель ощущал духовно и физически. Разумеется, смена исторических «вех» и реалий, еще в большей степени ментальные изменения в обществе, неизбежные для рубежа эпох, предполагают новизну и нестандартность исследовательских решений. Но и они были заданы Шаламовым.
Не случайно в название монографии вынесены его удивительные слова: «И верю, был я в будущем…» (5, 342). Даже нам, живущим во времена постклассической рациональности и кризиса линейной причинности, трудно не принять их за поэтическую метафору, тем более связать с «жадной силой времени», беспощадно бросившей человека на «край» бытия. Однако подобное откровение не единично: видя в писательстве «совершеннейший из совершеннейших приборов» познания действительности, Шаламов считал свою поэзию наполненной «безусловной и точной, незамеченной никем другим реальностью из бесконечного мира еще непознанного, не открытого, не прочувствованного» (5, ПО; курсив мой. – Л.Ж). А поскольку, по его же словам, «поэзия – это мир всеобщих соответствий» (6, 294) и он неоднократно подчеркивал единство стиха и прозы, то мы вправе распространить эту характеристику на все творчество автора.
Современное прочтение Шаламова предполагает «распаковку смыслов», спрессованных творческой силой в иерархическую структуру текста. Данное понятие принадлежит выдающемуся исследователю-энциклопедисту, колымскому «собрату» писателя В. В. Налимову Будучи крупнейшим представителем философии трансперсонализма, ученый видел выход в духовном освобождении человечества «от локальных моделей, тяготеющих над современным научным мировоззрением. Хочется вырваться на простор и с каких-то единых позиций увидеть то, что дано нам видеть. Увидеть же хочется прежде всего человека в его погруженности в этот мир – выявить его внутреннюю сопричастность смыслам этого Мира, данным нам в процессе их творческого раскрытия» [5, 28]. Собственно говоря, шаламовская фраза «<…> был я в будущем» и предполагает подобное трансцендирование художественного сознания в континуальность мировой культуры, в парадигму перекрещивающихся ценностных ориентации.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru