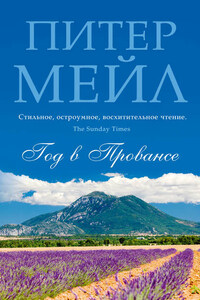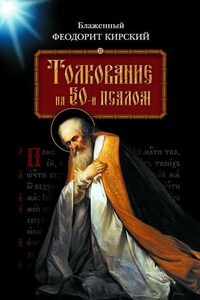Часть I. Луций. Толкователь молний
14 год от Р. Х.
Луций резко проснулся.
Ему привиделся сон. Там не было земли, только темное пустое небо, а за ним – невообразимо бескрайняя небесная твердь с яркими звездами. Их не заслоняла ни единая тучка, и все же там сверкали молнии, всполохи без грома, беспорядочные слепящие вспышки, освещавшие огромные стаи птиц, что внезапно заполнили темные небеса. Стервятники и орлы, вороны и во́роны, все мыслимые разновидности пернатых, которые парили и били крылами, но создавали не больше шума, чем беззвучные молнии. Сон поверг его в недоумение и смятение.
Теперь, пробудившись, Луций расслышал далекое рокотание грома.
Он различил и другие звуки, которыми полнился дом. Рабы уже принялись за обыденные дела, разжигая кухонный очаг и отворяя ставни.
Луций спрыгнул с постели. Его комната с балкончиком, откуда открывался вид на запад, находилась на верхнем этаже. Внизу лежал склон Авентинского холма. Ближайшие здания, тянувшиеся вдоль гребня, были просторны и сработаны на совесть, как и его родной дом. Ниже теснились постройки поскромнее, жилые хибары и ремесленные мастерские, а еще дальше начиналась равнина с большими зернохранилищами и складами, лепившимися к Тибру. У реки город заканчивался. Леса и луга на другом берегу были разделены на частные имения богачей и простирались до дальних холмов и гор.
До чего же ненавидела этот вид его мать! Рожденная в зажиточном семействе рода Корнелиев, она выросла в доме, находившемся на другой, более фешенебельной стороне Авентина, он был обращен к огромному, расположенному ниже Большому цирку, увенчанному храмами склону холма Капитолийского, а прямо напротив – к величественному Палатинскому холму, где жил император. «Помилуйте, да с нашей крыши, – говаривала она, – я в детстве видела дым капитолийских жертвенников, наблюдала за гонками на колесницах, а иногда даже случалось разглядеть самого императора, который прогуливался по террасе!» («Все сразу, Камилла?» – добродушно подтрунивал над нею отец.)
Однако для Луция этот пейзаж был родным. Именно такой Рим представал перед ним в окне спальни все двадцать четыре года жизни: смешение богатства и нищеты (последней много больше); рабы здесь безостановочно гнули спины, размещая в огромных складах зерно и товары, изо дня в день прибывавшие по реке из бескрайнего дальнего мира – мира, принадлежащего Риму.
Май выдался дождливым, и нынешний день обещал быть не лучше. В тусклом свете зари, пробивавшемся сквозь облака, Луций видел, как раскачиваются на берегу Тибра кипарисы. Неистовые ветры были теплыми и пахли дождем. На горизонте собрались черные грозовые тучи, озаряемые молниями.
– Отличная погода для гадания! – пробормотал Луций.
Его комната была обставлена скудно: узкая постель, единственный стул без спинки, шкафчик, набитый свитками со времен ученичества; зеркало на сияющей медной подставке и несколько сундуков с одеждой. Луций открыл самый богато украшенный и бережно извлек оттуда особое облачение.
Обычно он дожидался раба, который помогал ему одеться, – уложить складки в нужном порядке не так-то легко, – но сейчас ему не терпелось. Сегодняшний наряд отличался от простой тоги, что Луций надел в семнадцать, став мужчиной. Трабея – особая одежда, которую носили только авгуры, члены древнего священства, обученные прорицать волю богов, – была не белой, а шафранового цвета с широкими пурпурными полосами. Луций прикоснулся к ней впервые в жизни, не считая примерки, когда портной подгонял наряд под него. Новая шерстяная ткань была мягкой, плотной и благоухала свежим красителем из пурпуроносных моллюсков.
Облачившись, Луций старательно уложил складки как подобает. Взглянул на себя в медное зеркало и снова вернулся к сундуку. Теперь он достал тонкий, слоновой кости посох, который заканчивался небольшой спиралью. Литуус[1] был семейной реликвией, давно ему знакомой; Луций провел бессчетные часы, упражняясь с ним и готовясь к нынешнему дню. Но сейчас он взглянул на литуус свежим взором, изучая замысловатую резьбу: вся поверхность посоха была украшена изображениями воронов, ворон, сов, орлов, стервятников и цыплят, а также лис, волков, лошадей и собак – всех тварей, по поведению коих опытный авгур толкует волю богов.
Луций вышел из спальни, спустился по лестнице, пересек окруженный перистилем[2] сад в центре дома и шагнул в трапезную, где мать и отец, откинувшись на ложе, ожидали, пока раб подготовит все для завтрака.
На матери была простая стола[3], длинные волосы еще не убраны в дневную прическу. Она подалась вперед:
– Луций! Зачем ты уже облачился в трабею? Нельзя же в ней завтракать! А если чем-нибудь капнешь? До церемонии еще несколько часов, сначала мы посетим термы. Вас с отцом побреют…
– Матушка, – рассмеялся Луций, – я просто поддался порыву. Конечно, я не собираюсь в ней завтракать. Но скажи, как я тебе нравлюсь?
– Ты великолепен, Луций, – вздохнула Камилла. – Такой же красавец, как и твой отец в трабее. Правда же, милый?
Отец Луция, всегда сохраняющий строгость сообразно своему статусу патриция, сенатора и родственника императора, ограничился кивком.
– Наш мальчик хорош собой, но трабею надевают не для красоты. Жрец должен нести свое облачение, как и литуус, с достоинством и значительностью, приличествующими посреднику богов.
Луций расправил плечи, задрал подбородок и выставил литуус:
– Что скажешь, отец? Хватает ли мне достоинства?
Луций Пинарий-старший изогнул бровь. Юный Луций по-прежнему часто казался ему мальчишкой, и особенно сейчас, в жреческом облачении, но с кое-как заправленными складками, точно дитя во взрослом наряде. Двадцать четыре года – слишком мало для вступления в коллегию авгуров. Пинарий-старший удостоился этой чести только на пятом десятке. Юный же Луций, красивый, с широкой улыбкой и черными, еще взъерошенными со сна волосами, едва ли соответствовал привычному образу морщинистого, убеленного сединами прорицателя. Однако юноша происходил из древнего рода авгуров и в ходе учебы проявил замечательные способности.