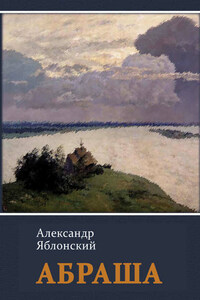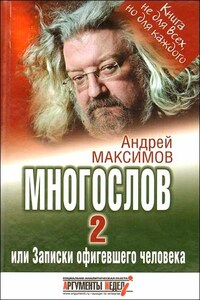В САМОМ конце ноября 2012 года в галерее Ирины Горбман случился очередной салон. Салоны эти – событие незаурядное, заметно освежающее нашу бурную, но однообразную жизнь. Деревья уже оголились, темнело рано, но дуновения зимы ещё не достигли наших краев, и угрозы снежных заносов не отпугивали местную элиту от недалеких вояжей по богатым пригородам Бостона.
Гости собирались в назначенный час. Машины были дорогие, но не шикарные. Галерея г-жи Горбман привлекала к себе людей солидных, интеллектуальных и без претензий на роскошь, – претензий, так свойственных недавно прибывшим в Америку русским патриотам. Чертог сиял. Подавали хорошее красное вино и сыры, преимущественно твердых сортов. Всё просто, но со вкусом и в высшей степени аристократично. Вскоре кресла были заняты, лишь небольшая кучка мужчин ещё скромно толпилась у буфетного столика, и две женщины заканчивали беглый просмотр последних живописных работ хозяйки салона – надо признать, совсем даже замечательных. Как обычно, зал был полон. Среди присутствующих выделялась несравненная И.М. Впрочем, это не так важно, тем более что автор живописных работ почти затмила несравненную И.М. Читатель, не вкусивший прелестей нашего изысканного общения в интеллектуальной столице Штатов, всё равно с ними не знаком, как и с остальными гостями, чьи имена украшают нынешнюю бостонскую эмиграцию. Госпожа Н. сидела недалеко от господина С., и это не ускользнуло от внимания Алекса Л. Он нервно вздрагивал и слушал Николая Грушко не очень внимательно. Здесь необходимо упомянуть, что салон состоялся по причине встречи с этим удивительным человеком. Если кто-то забыл имя этого не только удивительного, но и замечательного человека, то я не поленюсь напомнить. Впрочем, я с ним не знаком. Может, и не удивительного. И не замечательного. Но поэта и переводчика. Вероятно, меня упрекнут в обилии определений – прилагательных: «прекрасный», «удивительный», «замечательный». Я принимаю упрек, но хочу отметить, что все они соответствуют действительности. Или не соответствуют. По причине врожденной скромности, я не употребил ещё несколько синонимов, которые знаю и которые неизбежно приходят на ум при упоминании этого незаурядного человека. Когда-то – «как молоды мы были!» – всех покорили Александр Абдулов и Николай Караченцов в рок-опере – одной из самых первых в СССР – «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Это была сугубо советская рок-опера с музыкой Алексея Рыбникова в постановке Марка Захарова, тогда талантливого и незапятнанного художника. Так вот, автором либретто по мотивам драматической кантаты Пабло Неруды был Павел Грушко. Любителям поэзии и перевода Павел Грушко известен как автор стихов, написанных на русском и испанском языке – ныне мало кто так умеет. Сейчас и на одном языке не очень ворочают… Однако, главное: он – отличный переводчик, один из лучших знатоков испаноязычной поэзии, говорят… Так что слушал я его внимательно. Было интересно, хотя и подробно. Некоторые дамы стали переглядываться, а мужчины – немногие, из числа наиболее продвинутых в гуманитарной области, – продолжали затылком чувствовать наличие буфетного стола. Я же никуда не торопился, так как стоял Филиппов пост, и к ужину меня ничто не манило.
Говоря об импровизационности творческого процесса, о непредсказуемости развития сюжета, непрогнозируемости последствий изначального замысла, Николай Моисеевич вспомнил высказывание Клее. Пояснять тебе, мой неизвестный друг, кто такой Пауль Клее, нет резона. Узок круг моих читателей, страшно далеки они от народа, но европейский авангард XX века им не чужд. Посему мысль Клее им известна. Но, увы, не мне, заурядному. Я от неожиданного знакомства с ней запомнил и полюбил её. «Выпусти линию погулять. Она сама тебя поведет».
Как всё просто. Напиши первое слово, первую фразу или зацепись за чужую, и вдруг фантазия поведет тебя, потащит… Я и без слов Клее знал это. «… Как-то после работы взял […] том Пушкина и, как всегда (кажется, седьмой раз), перечел всего, не в силах оторваться, и как будто вновь читал. […] И там есть отрывок “Гости собирались на дачу”. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман… роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен…». Это и многое другое я знал. Так же, как знал, что ваш покорный слуга – не Лев Толстой, и пишет этот покорный слуга не «Анну Каренину». Отнюдь. Но всё равно, слова Клее засели.
Придя домой, в ожидании постного ужина, старательно приготовленного женой – жена, кстати, у меня замечательная, – я стал смотреть в окно. То, что увидел, записал. Линию выпустил. Куда заведёт?…
А на улице
ШЁЛ ДОЖДЬ.
Шёл дождь. Скучный и нудный. Однако этот неприятный природный факт даже радовал Гаврилу Карловича. Можно было не чертить круги на улице: выпустил во двор Птоломея, тот сметливо в момент выполнил свои обязанности, теперь до утра все свободны. В холодильнике томились загодя припрятанные «Московская» за 2.87 и четвертинка «Столичной». В кладовке в старом валенке затаились «777», а на подоконнике красовались две бутыли «Мартовского», официально презентованные заботливой Софьей Сигизмундовной на тот случай, если благоверный без неё заскучает. Сама Софья Сигизмундовна уже третий день поправляла своё пошатнувшееся здоровье в профсоюзном санатории имени товарища Пальмиро Тольятти… Так что время наступило радостное и солнечное, хотя на улице шел дождь.
Шёл дождь. Шинель промокла ещё сутки назад, как только выступили из Слободского. Вода, собранная в сапоги, согрелась и ласково ритмично чавкала в такт с шагом всей колонны. Казалось, что идут они по мелководью Азовского лимана, а в руках не винтовки наперевес, а рыболовецкие снасти, удочки, палки. Заключённые шли мерно, спокойно, угрюмо, тушканчики попрятались по своим норам, так что внезапных движений в колонне не вспыхивало. Собаки понуро плелись, зная по опыту, что в такую слякоть ни один этапник шаг направо-налево не сделает. Жижа и топь. Саше удавалось вздремнуть на ходу, и он в секундных снах слышал голос мамы, плеск стираемого в корыте белья, видел всполохи восходящего солнца на чисто вымытом окне мазанки и слепящие его блики на щербатой поверхности лимана. Однако капли воды, затекающей за ворот шинели, моментально будили, и он судорожно сжимал приклад, ствол винтовки и испуганно озирал вверенный ему участок колонны.