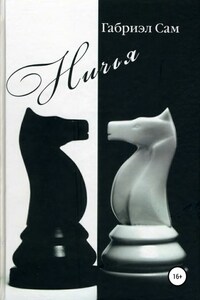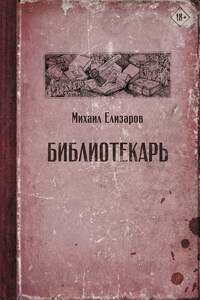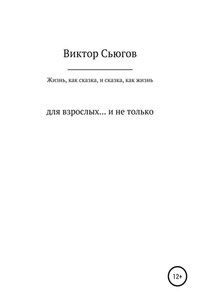Много лет тому назад Иван Сергеевич Тургенев, глубоко опечаленный состоянием отечественных дорог, пришел к заключению, что «в России жить нельзя», и, не мешкая, выехал на постоянное место жительства за рубеж. Однако практика показала, и поднесь показывает, что можно, и даже у нас можно жить припеваючи, если освоить искусство существования, то есть мало-помалу насобачиться так управлять своим краткосрочным пребыванием на земле, чтобы сама собой источала радость (оно же счастье) даже такая ерунда, как бутерброд с ливерной колбасой.
Счастье бывает острое и хроническое. Острое – это в большинстве случаев реакция на победу в продолжительной и многотрудной борьбе за что угодно, хоть за лишние десять соток, хоть за распределение по труду. Это – когда вы без памяти влюблены, и весь божий мир вам как бы подпевает на разные голоса. Такое еще случается с человеком в часы заката, если он сидит в одиночестве на берегу тихой реки или на скамеечке у ворот, наблюдает, как медленно, будто в задумчивости, уходит на покой дневное светило, и вдруг его всего точно окатит мысль: нет ничего слаще обыкновенной жизни, просто жизни, при том, конечно, условии, что ты – человек вникающий, то есть собственно человек.
В свою очередь, счастье хроническое подозрительно напоминает любое другое неизлечимо-хроническое заболевание, вроде диабета или гипертонии, которое неразлучно с тобой, как мысль. Это – когда тебе давно и доподлинно известно, что счастье есть всего-навсего отсутствие несчастья, когда ты изо дня в день как-то подробно ощущаешь работу своего духовного организма, утешаешься тем, что у тебя чистая совесть, и при этом тебя переполняет сознание личного бытия.
В том-то и состоит искусство существования, чтобы, с одной стороны, холить и лелеять эту самую хронику, а с другой стороны, время от времени провоцировать обострение, иной раз даже резко-принудительного характера, если оно не приходит само собой. Например, по весне, когда развивается авитаминоз и нервное истощение, как-то все не ладится, супруга злится и у нее иногда страшно загораются глаза, – хорошо бывает взять отпуск за свой счет и махнуть куда-нибудь подальше, на поиски тех благословенных мест, которые называются – «пуп земли».
Доступнее всего в нашем пиковом положении, то есть в положении трудящегося, который перебивается «с петельки на пуговку», будет путешествие в Псковскую губернию, в Святогорье, в сельцо Михайловское, некогда принадлежавшее Александру Сергеевичу Пушкину, могучему российскому писателю семитского происхождения (если кто о нем не слыхал), которому Аполлон Григорьев дал глупое прозвище «Наше Всё». Сто против одного: такое нахлынет обострение, что от него потом долго не отойдешь.
Как прибудешь во Псков, сразу начинаются чудеса. Дорога на Святогорье, которое большевики сдуру переименовали в Пушкиногорье, это не дорога, а долгосрочное оборонительное сооружение, потому что по ней никакая вражеская техника не пройдет. Другое чудо: середина марта, соседняя Тверская губерния еще вся лежит в снегах, грязно-белых, как давно не стиранное белье, а тут веет чем-то средиземноморским, поскольку кругом сухо, солнышко светит, землей пахнет и радуют глаз бедно-зеленые, умилительные тона; и столетние ели, далеко уходящие в небо, зелены, и мох на валунах, и тесовые крыши часовенок, и трава. И так вдруг радостно, хорошо сделается на душе, словно тебе объявили дополнительный день рождения, за то что ты незлой и покладистый человек.
Третье чудо: безлюдье; живучи в Михайловском не в сезон, редко встретишь живого человека, как будто ты в Австралии какой очутился, где скорее наткнешься на крокодила, нежели на аборигена с детским лицом, а не на северо-западе России, где на сто квадратных километров пространства обязательно приходится одна бабушка с лопатой, один человек с ружьем. До того дело доходит, что если увидишь издали поселянина, скажем, на противоположном берегу Сороти, то даже оторопеешь, – так это покажется странным, недостоверным, как спиритизм.
Четвертое чудо, особенно радостное: телевизор в Михайловском показывает только две программы (православную и про рыбалку), и, таким образом, тут ничто не мешает чувствовать и вникать. Бывало прогуливаешься в Михайловском парке – пруды уже очистились ото льда, и карп может высунуть ноздри над водой, точно он принюхивается к атмосфере, а то белочка прошмыгнет под ногами, попрошайничая, и вдруг грянет такая мысль: может быть, это и есть Вседержитель – те самые два таинственных гена, которыми отличается карп от белочки, а белочка от тебя. Выйдешь за ограду усадьбы, миновав пушечку для стрельбы по гостям, – пара белоснежных лебедей, он и она, медленно скользят по зеркалу Сороти, похожие на миниатюрные айсберги, и сразу до колотья под ложечкой захочется мучиться и любить.
Точно тут «пуп земли», хотя бы потому, что нигде, кроме как в Михайловском, не думается так стремительно и легко. Даже три роковые русские загадки постепенно находят убедительные разгадки, и в конце концов покажется, что больше вопросов в природе нет. «Что делать?» – Сухари сушить. «Кто виноват?» – Все виноваты. «Ну и что?» – Да, собственно, ничего.
В гостевом домике, который в действительности представляет собой приятный двухэтажный беленький особнячок, тоже пустынно – одна дежурная сидит в прихожей под лампой, почитывает что-то и норовит вступить в разговор про Александра Сергеевича, который-де томился здесь в ссылке за то, что писал непоказанные стихи.
– Всем бы такую ссылку! – бывало, ответишь ей.
Однако случается, что в гостевом домике невзначай поселится пара-другая молодых людей из интеллигентных, даром что они занимаются операциями с недвижимостью, и по вечерам с ними бывает занятно поговорить. В кухне, смежной с огромной общей столовой, готовится какой-то экзотический чай, дамы подают сласти и бутерброды с разной разностью, все рассаживаются за длинным-предлинным столом, какие бывают в замках, и сразу заводится российский, то есть отвлеченный, нервный, бестолковый, зажигательный разговор, который волнует, как легкий наркотический препарат.
– Слыхали: Пичужкин умер?
– Это еще что за птица?
– Да был такой диссидент, который тридцать лет боролся с советской властью и, нужно отдать ему должное, победил. Кристальной души был человек и бесстрашный, как бегемот. Вообще замечательные у нас попадаются мужики: тридцать лет этот мученик писал разные воззвания, восемь раз выходил протестовать к Лефортовскому узилищу, долго мыкался по психушкам и лагерям, одну почку потерял, с семьей расплевался – все ради торжества священных гражданских прав! И вот когда в стране кончились макароны, начались веерные отключения электричества, пошла стрельба по городам и весям, как на войне, словом, когда этот мученик насмотрелся на плоды своих героических усилий, он поехал с лекциями в Соединенные Штаты, и был таков. Там ему, кстати, вставили новую почку как пострадавшему в борьбе за реальный капитализм.