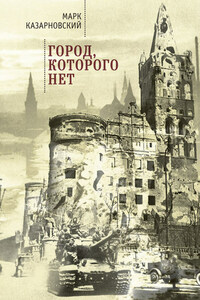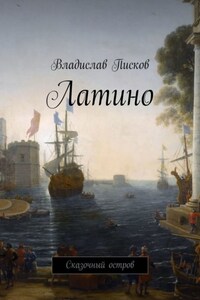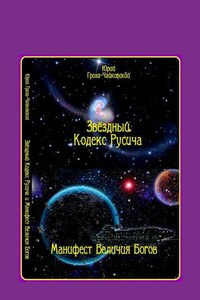Глава I
Обрывки записок военного инвалида на пенсии
О чем думает и говорит, и снова думает, пожилой мужчина. Проживающий в засоренном и запыленном донельзя Липецке. Что недалеко от Воронежа.
Но это теперь, когда Липецк – кузница металлургии, где много пыли, грязи и постоянного грохота. Что хотите, металл просто так не рождается. Не даром иногда рабочий человек после смены у мартена дома и рюмку поднять не может. Этот металл съедает не только траву да деревья, не только воздух да птиц разных. Съедает он и человека.
А государство наше, кстати, рабочих и крестьян, все требует и требует – подай металл. Родина ждет. Родина тебе и благодарна будет. Как же, как же!!
Я уже полный, можно сказать, старик. И не хвастаюсь, дожил до девятого десятка. У стариков есть этакое, я замечал, старческое. Хвастовство.
Чем мы хвастаемся? Кроме, конечно, возраста. Во-первых, теми подвигами или свершениями, которых никогда и не было. Но, все уже поумирали, поэтому перед молодыми, во дворике, можно и распустить это самое, пух-перо. Мол, как самого Махно громил, или в разведке взял генерала Вермахта очень важных кровей, или вообще, сам этот рассказчик намекал, мол, теперь сказать можно. Можно приврать, что я-то сам из рода барона Врангеля. Или Ротшильда. Только и сейчас об этом глубоко дворянском происхождении лучше молчать. Или о возрасте, да загнуть лет на 10 вперед.
Итак, первое старческое – хвастовство. Второе старческое – дамский пол. Его уж давно нет у деда, а все тянет куда-то. В задымленные дали. Где бегала когда-то Валька, Нинка или Галка – Манька или еще кто. Ноги в цыпках, руки с обкусанными ногтями, губы чуть припухшие. Боже, боже, как желанна эта Валька – Галка, Манька или как. Да вот уже никогда не появится, когда ты бредешь по окраинной улочке к речке. Может она сейчас там, да без рубашки, купается! Увы, нет. Не купается.
И третье, особенное и очень даже свойственное нам, пожилым – воспоминания детства. Особенно, если детство пропахло оладушками, кудахтаньем и петушиным криком, и теплыми руками мамы.
Я даже вывел формулу: «Когда тебе под девяносто, не оборачивайся назад. Обязательно попадешь в воспоминанья».
В общем, пора представиться. Я, подполковник ВВС СССР[1] (а не России) в отставке, ветеран войны на Халхин-Голе, Финляндии. Специальность – летная, владею навыками вождения ТБ-3[2]и стрелка-радиста. Летал истребителем на ЯК-1, ЯК-2, ЯК-3.
Всяко было в моей жизни, но следует добавить – нужно за все благодарить небеса. Особенно нам, летчикам. Мы к ним, небесам, все-таки немного ближе.
Зовут меня Федор Михайлович Запрудный. Имя мое в детстве было простое – для еврейского местечка в Белоруссии. Просто звали меня Файтл. А уже на улице добавили – Файтл – цапля. Думаете, это потому, что длинный, тощий, с носом и все время смотрю вниз, в лужи? Как цапля.
Нет. Я – небольшого роста и смотрю даже не вниз, а вверх, на небо. А «цапля» – за мои «спортивные» достижения. Ибо на улице я дольше всех мог стоять на одной ноге. Прям как цапля. Вот и стал – Файтл-цапля.
Папа мой, Моисей, работал на лесном заводе, а сестры… Ну что сестры. Хихикали, шептались. Гоняли меня – Файтл – сюда, Файтл – туда.
Я про местечко свое забыл совершенно. Побудьте бомбером хоть один вылет – поймете. Но – все по порядку, пока ко мне возвращается мое местечко, мои ребята, мое ученье и мой дом. Иногда все – как в тумане, а вот праздники так ярко высвечиваются в памяти. И снова я становлюсь Файтлом-цаплей.
На пасху меня гоняют по всему дому. Найти и выбросить хамец[3]. И Боже сохрани хоть чуть поесть или сохранить хамец дома. Папа и отшлепать может.
А потом эти сестрички – лентяйки заставляют меня помогать им готовить пасхальный стол для седера[4]. Ты смотри, сколько десятков лет прошло, а я не забыл. Не забыл про мацу, про бокалы для вина, не забыл подать и пасхальную тарелку с особыми выемками для мяса, яйца, зелени, для харосета[5] и хрена.
Дальше у меня все мешается и только помню начало кадиша[6], что папа произносит над пасхальным столом (а есть как хочется!)
А потом – трапеза и все хвалят меня – какой помощник!
Странно, но с детства меня тянуло к железкам. И не книги или сапожки я просил у папы. А только или тисочки, или напильник-рашпиль, или молоток, или долото. Папа хмыкал, но приносил. А летом, чтобы не «байстрюковал», неожиданно отдал меня на Кузнечную улицу, к Шлойме-каторге. Шлойме с сыном и работником превращали куски железа в плуги, бороны, оси для телег, ободы, шкворни. Да мало ли во что. И я теперь, в летние дни, уже не болтался с ребятами, играя в лапту или еще какие-нито глупые игры, а важно шагал в кузню Шлойме, где начинался звон-перезвон, стук-перестук. Да, я работаю у самого «каторги». Шлойме отличался вспыльчивым нравом и огромной силой. Поэтому, однажды повздорив с крестьянами, ахнул одного беднягу в ухо и загремел на каторгу. Его сын Лейба, мой дружок, рассказывал, что в Сибири на каторге на спор ели людей. Я однажды с замиранием сердца спросил у Шлойме, правда ли это и каково. Шлойме долго хохотал и сказал:
– Вот придет этот мой проказник Лейба, я выстригу у него на голове полосу. Будет знать, как врать про отца родного. – И шепотом добавил: – А потом мы его съедим.
Сердце падало в пятки, хотя я и понимал – Шлойме шутит.
Я разводил огонь, клал в угли болванку. Сегодня будем делать шкворень.
Кузнечная улица постепенно наполняется шумом и гамом. Перекликаются бондари, хлопают кожами шорники, гремят ободами колесники. Крики, шутки, подначки. Жизнь.