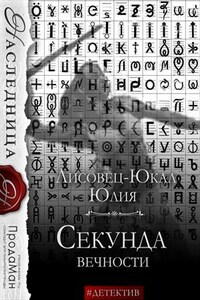Эдуард Аркадьевич, или, как называли его друзья, Эдик, Штейнберг – уникальная фигура в отечественном искусстве. Художник из поколения нонконформистов, он смог восстановить преемственность с идеями супрематизма и символизма, с традициями русской иконы – и при этом оказался в минималистском поле, актуальном для всего европейского искусства.
Сегодня, приступая к осмыслению творческого пути художника, мы стремимся воочию представить те координаты, в которых проходило формирование его уникальной концепции «метагеометрии». И на этом пути может стать подспорьем данное издание.
Здесь собраны статьи, написанные разными авторами в течение длительного времени. В них мы найдем отражение поисков художника в искусствоведческом дискурсе, во взглядах современников, прочитаем тексты, возникшие в результате желания объяснить, интерпретировать или же вписать живопись Штейнберга в традиции геометрической абстракции.
В этом контексте наше видение пути художника обретает объемность, становится ярче и сложнее. В то же время эта книга может многое рассказать и об эпохе, которой Штейнберг был современником, и о непростом «труде зрителя», вовлеченного в процесс сопутствования-сопереживания поискам, прозрениям, открытиям художника, стремящегося изобразить невидимое.
В книге «Эдуард Штейнберг. Материалы биографии», выпущенной издательством «Новое литературное обозрение» в 2015 году, в письмах, воспоминаниях, интервью, в текстах самого художника достаточно выразительно раскрывается как психологический портрет героя, так и канва его жизни.
В новом издании – сборнике критических статей и эссе о творчестве Э. Штейнберга – возникает возможность понять его уникальность, проследить его эволюцию в контексте эпохи и опознать тот внутренний пафос, тот дух, который и определяет феномен этого художника. Жизнь Эдика Штейнберга в искусстве наглядно делится на три периода. Первый – между концом 1950-х и концом 1980-х, ни публично, ни коммерчески не адаптированный. Второй – с конца 1980-х до начала 2012 года, оборвавшийся смертью художника, связанный многолетним сотрудничеством с известной парижской галереей «Клод Бернар» и рядом музейных западных и российских выставок. И, наконец, третий – посмертный, музейно и издательски событийный.
В книгу включены более тридцати статей из российских и зарубежных изданий. Жанр текстов неоднороден. В каждом из них не только видится персональный стиль, отличающий того или иного автора, но и всегда присутствуют – при выявлении основной доминанты – индивидуальные открытия неожиданных поворотов, деталей, граней в искусстве Эдуарда Штейнберга.
Разумеется, большое число текстов представляют второй и третий периоды. К начальному относятся только статья религиозного философа Евгения Шифферса «Идеографический язык Эдуарда Штейнберга» и «Бытие числа и света» критика Виталия Пацюкова, написанные в брежневскую эпоху без расчета и надежды на публикацию, как жест бескорыстной дружеской и творческой поддержки художника, пребывающего в абсолютно не резонирующем, замкнутом социальном пространстве.
Эссе Х. Гюнтера и М. Хюттеля – это отклик немецких друзей-славистов на первую неофициальную выставку работ Э. Штейнберга в 1983 году в Германии. Основное же число текстов было создано во второй и третий периоды для каталогов музейных и галерейных выставок, поэтому они мало знакомы широкому читателю, хотя авторский круг сборника и пестрит известными именами.
Среди российских авторов Василий Ракитин, Борис Гройс, Евгений Барабанов, Александра Шатских, Александр Боровский и др. Зарубежная критика представлена статьями Д. Фернандеса, Ива Мишо, Жан-Клода Маркадэ¸ Ханс-Петера Ризе, Божены Ковальской, Роже-Пьера Тюрина и др. Здесь названы фамилии исследователей, которые еще при жизни художника проявили внимание к его творчеству. После его смерти появились и новые имена. Анна Чудецкая – научный сотрудник Музея имени Пушкина, руководитель работы музея по созданию каталога-резоне Э. Штейнберга, Роман Цигльгенсбергер, Наталья Смолянская и др.
Может показаться, что в некоторых случаях участники сборника повторяют друг друга, видя доминанту творчества художника в его следовании традиции Казимира Малевича, но само понимание этой традиции рассматривается ими в разных ракурсах, с разной степенью сложности и ценностной ориентации. Одни анализируют искусство Э. Штейнберга в пространстве региональной русской культуры, другие открывают родственность московско-тарусско-парижского художника европейской метафизике¸ а третьи говорят об универсальности религиозно-философских идей, экзистенциально претворенных им в пространстве современной картины.
Порою общее полифоническое звучание голосов вступает в контрапункт с иным виденьем и иной трактовкой, ибо бросается в глаза, с одной стороны, принципиально осмысленная и не однажды заявленная художником традиционность. С другой стороны, экзистенциально биографическая уникальность, отмеченная всеми аналитиками, – когда художник находит в своем творчестве ключ к синтезу важнейших явлений русского искусства, ранее существовавших в заведомой оппозиции. Три слона, на которых в гармонии держится его метагеометрическая планета, – икона, символизм, окрашенный софиологией Вл. Соловьева, и супрематизм К. Малевича.
Так, в совокупном объеме стилистически инаковых высказываний искусствоведов, философов, критиков, журналистов, художников предстают масштаб дарования и самобытность природы творчества Э. Штейнберга.
Галина Маневич
Париж, март 2017
Идеографический язык Эдуарда Штейнберга[1]
Евгений Шифферс
I. Уточнение названия
В заголовок статьи, имеющей намерение вероятностно понять «говорение» картин Эдуарда Аркадьевича Штейнберга, поставлен термин «идеографический язык». Что имеется в виду автором статьи, когда он употребляет для себя как термин словосочетание «идеографический язык»? Священник Павел Флоренский написал в предисловии к задуманному «Словарю символов»: «…Выражение мысли фонетическим способом, то есть при помощи звуков слов, фиксированных в графических формах букв, является достижением развитых культур и обуславливается, без сомнения, наличностью сформированного языка словесного; древние культуры, отделенные от нас большими историческими циклами, а также культуры, находящиеся на границе наших исторических знаний, прибегали к системам письменности, основанным не на звуковом выражении понятий, но на их графическом воспроизведении, что может объясняться, с одной стороны, недостаточной развитостью языка словесного в противоположность, например, языку пластическому (языку жестов), а с другой стороны, – тем, что самые понятия языка имели гораздо более конкретный характер, нежели впоследствии, что способствовало воплощению этих понятий в конкретные зрительные формы. Но и в эпохи культур, достигших, казалось бы, наибольшего расцвета, сказывается некоторое тяготение к зрительным формам изображения понятий, при которых зрительные образы становятся способом выражения отвлеченных понятий, простых и сложных, и в которых конкретные изображения становятся знаками и символами идей.