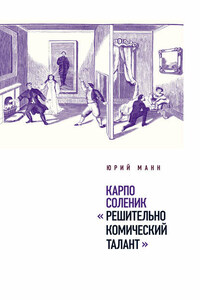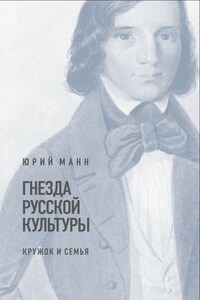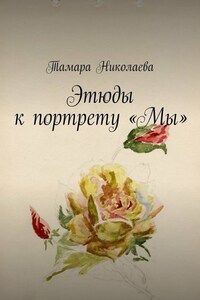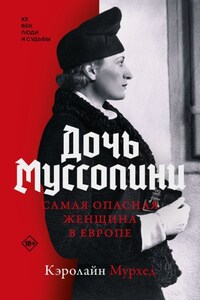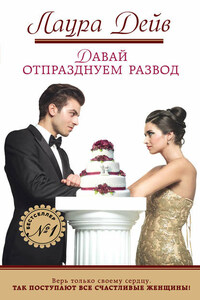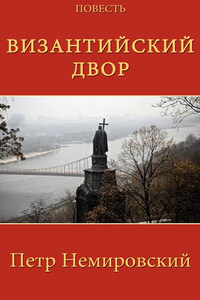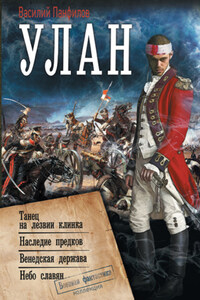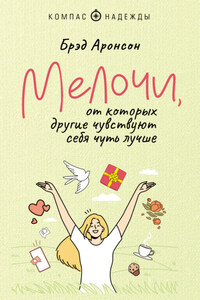Каждый, кто знаком с историей первой постановки «Ревизора», состоявшейся 19 апреля 1836 года в Петербургском Александринском театре, знает, сколько заботы и требовательности проявлял Гоголь к подбору состава исполнителей. И, вероятно, многие помнят следующие строки из письма Гоголя одному его черниговскому знакомому: «…Есть в одной кочующей труппе… актер, по имени Соленик. Не имеете ли вы каких-нибудь о нем известий? И, если вам случится встретить его где-нибудь, нельзя ли как-нибудь уговорить его ехать сюда?.. Данилевский видел его в Лубнах и был в восхищении. Решительно комический талант!»[1]
Перечитывая эти строки, невольно задаешь себе вопрос: почему мы так мало знаем о Соленике? Быть может, отзыв Гоголя вызван какими-либо случайными обстоятельствами (скажем, преувеличенной оценкой Соленика Данилевским) и не подтверждается другими свидетельствами? Нет, было время, когда о Соленике писали много. И писали, например, так: «Выполняя роли из произведений Грибоедова, Гоголя, Мольера, – Соленик, касательно заслуг своих в этом случае, стоял, быть может, наравне с этими писателями…»[2]
Наравне с Грибоедовым, Гоголем, Мольером! Даже если такой отзыв не вполне справедлив, художник, вызвавший его, достоин внимания. Но, как мы увидим в дальнейшем, подобные похвалы были не так уж преувеличены, и в этом случае значимость Соленика возрастает во много раз. Он представляет живой интерес для самого широкого читателя. Он заслуживает большего, чем это было до сих пор, внимания исследователей.
Насколько много писали о Соленике в современной ему театральной критике, настолько мало – в последующей научной литературе. Первую попытку собрать материалы об актере сделал дореволюционный театровед, энтузиаст изучения прошлого харьковского театра Н. Черняев; он опубликовал в газете «Южный край» за 1881 год (№ 274) статью, посвященную Соленику. В последующие годы появились два биографических очерка: Ол. Кисиля «Украiнский автор Карло Соленик» (Киев, 1928) и М. Дибровенко «Карпо Соленик» (Киев, 1951). Обе работы, особенно последняя, содействовали более правильному пониманию деятельности Соленика, но все же не содержали критического анализа всех имеющихся о нем материалов, не давали творческой биографии актера.
На русском языке за советское время вообще не было издано ни одной работы о Соленике. В общих же работах, посвященных истории театра, Соленику дается очень беглая, скупая оценка – а чаще всего даже не упоминается его имя. Не сказалась ли в этом некоторая инерция исследовательской мысли, привычка держать на примете определенный круг известных, уже «апробированных» фигур? И не беднее ли оттого наше общее представление о зарождении и развитии новых художественных направлений и стилей на русской сцене позапрошлого века?
Девятнадцатый век русского искусства необыкновенно богат, и творчество Соленика тому ярчайшее подтверждение. Мы убеждены, что если не наша книга, то последующие за ней другие работы покажут это наглядно и неоспоримо.
Глава I. Провинциальный артист
Здесь карьер ваш театральный
Разве можно сделать вам?
Наш театр провинциальный,
Смех и горе, стыд и срам!
Д.Т. Ленский. Лев Гурыч Синичкин
1
В 10–20-е годы позапрошлого века по юго-западным губерниям России и Украины, из Курска в Харьков, а из Харькова в Полтаву, кочевала актерская труппа Ивана Федоровича Штейна – в ту пору это была одна из лучших провинциальных трупп, а сам Штейн – видным театральным деятелем. Родом немец, он соединил в своем характере чисто немецкий педантизм и пунктуальность с самозабвенной, поистине широкой любовью к искусству. Правда, особым актерским дарованием он не блистал, хотя и считался хорошим танцором, мимистом, а по другим источникам – еще и отличным фехтовальщиком. Но зато как антрепренер он долгое время не имел себе равных в провинции. Его серьезное отношение к делу, энергия, любовь к искусству – и это в то время, когда большинство антрепренеров смотрели на театр только с коммерческой точки зрения, – привлекали к нему и артистов, и зрителей.
Штейн не жалел средств, чтобы поставить театральное дело на широкую ногу. В 1816 году в Харькове, где его труппа проводила большую часть сезона, он построил вместительный деревянный балаган. Пригласил к себе лучших артистов, в том числе некоторых из Москвы, завел балетную «школу», в которую выписал мальчиков и девочек прямо из деревни, – и вскоре стал осуществлять такие постановки, что тогдашние театралы долго не могли опомниться от их великолепия и роскоши. Рассказывали, что в пьесе «Ивангое» участвовало до ста человек, причем «все в прекрасных костюмах и при соответствующей обстановке».
Облик Ивана Федоровича Штейна, каким он вырисовывается из воспоминаний современников, вполне совпадает с тем широко известным образом антрепренера из «Собачки», который позднее, со слов М.С. Щепкина, нарисовал Сологуб. Адам Адамыч Шрейн – так видоизменил писатель имя и фамилию Штейна – тоже был пунктуален, деятелен и предан искусству. Он, как хорошо помнит читатель, чуть было не стал жертвой этой своей пунктуальности и наивной веры в закон, чуть было не разорился и не пустил по миру всю труппу, да спас Поченовский, сообразивший, что от произвола городничего никуда не денешься и надо, пока не поздно, пожертвовать и собачкой, и тремя тысячами рублей денег.
Кстати, и нарисованная Сологубом фигура Осипа Викентьевича Поченовского, «трагического актера, оперного певца и первого комика», тоже имела в жизни реальный прототип, а именно Осипа Ивановича Калиновского, с которым Штейн одно время вместе держал антрепризу. Калиновский, по выражению одного современника, был «содержателем себе на уме»; он отличался изворотливостью, ловкостью, хорошо понимал обстановку, умел приноравливаться к властям – и этими своими качествами невольно оказывал Штейну неоценимую поддержку.
Была своя закономерность в том, что не одного замечательного русского актера приводила дорога в труппу Штейна и уж оттуда – на подмостки столичного театра. В 1816 году из Курска в только что открытый новый харьковский театр прибыл М.С. Щепкин, который прослужил у Штейна несколько лет. Во второй половине 20-х годов в труппу Штейна входил О.А. Петров, впоследствии знаменитый оперный артист, прославленный исполнитель партий Сусанина, Фарлафа, Бертрама. А в самом начале 30-х годов – вероятнее всего, в 1830 году – в труппу Штейна поступил Соленик.
Друг Соленика, харьковский литератор Рымов (его настоящая фамилия А. Барымов), в своих воспоминаниях об актере[3] писал: «Неизвестно… какими судьбами, в начале тридцатых годов, попал он (Соленик. – Ю.М.) в труппу Штейна, бывшего содержателя харьковского театра. Поступил он в нее сначала суфлером, но был им, вероятно, недолго». Автор статьи о Соленике, некто И.Н., тоже друг актера, указывал определеннее: «В 1830-м году поступил он в труппу Штейна… в должность суфлера…»