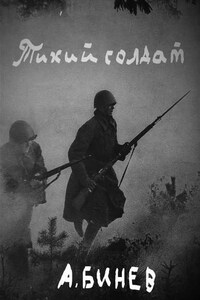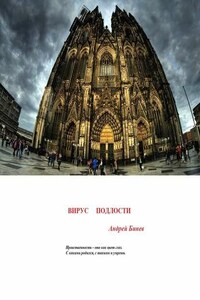Один мой случайный знакомый, болезненно полный человек, с бордовой бугристой кожей на одутловатом лице, как-то мечтательно протянул:
«Я вечен, потому что до последнего мгновения не поверю в свою смертность. А за ее порогом меня не станет, как и моего знания о том, что я был и что утерял безвозвратно самое ценное и даже единственное. Мне эта мысль помогает жить. Потому что я – это лишь то, что я сам о себе думаю.
Ты говоришь, я полон небылиц! А я отвечаю – лишь они истинны и реальны. Я гений, потому что в своих фантазиях я могущественен как Господь, создавший мир. Жалкая наша жизнь – лишь оболочка, лишь кожура, скрывающая сладкую сочную мякоть, которую такие, как ты называют „небылицами“, фантазиями. А они, эти небылицы, есть мысль, куда более реальная, чем тот сосуд, в который она заключена.
Я впущу тебя на мгновение под свою неприглядную кожуру, и ты увидишь там стройного юношу, сильного и независимого. Он – высок, длинноног и атлетичен, мышцы его налиты бронзовой силой, а мысли ясные. Он легко и без колебаний вершит все то, что недостижимо для моей оболочки. Он не врет себе, и его самого обмануть нельзя, он не питает иллюзий, потому что сам и есть иллюзия. Он – само совершенство, рожденное во мне.
Собственно, Он – и есть Я, а не тот, которого ты видишь перед собой, жирного, потного борова. Он защищен от вас всех тем, что вы о нем ничего не знаете, а значит, ваша жалкая зависть не сумеет убить его. Потому-то, наверное, он и бесстрашен. Однако лишь только вы заподозрите, что он существует, то немедленно назначите меня шизофреником, и будете травить, травить, травить мою мякоть. Но в ваших руках лишь шкура, оболочка, кожура…
Так живут все, тайно сохраняя свою нежную мякоть. Однако никакой силой из нас не вытравить небылиц и фантазий, иначе придется, в конце концов, поверить в свою смертность, а это и есть безвременная кончина, пришедшая раньше ее физического проявления.
Тот, что внутри меня, мой главный ориентир, мой единственный критик и жестокий судья. Он и ласковый мой брат!».
Этот жалкий толстяк умер во сне, предварительно все же потомившись в психиатрической лечебнице. Говорят, лишь всхлипнул и напоследок громко испортил воздух. Словом, перешагнул тот самый порог, за которым не было ни его уродливой оболочки, ни его стройного и счастливого «Я».
Не знаю, что за небылицы жили внутри него, но с недавних пор я заметил, что кое-что изменилось и во мне самом. Вот только тот, что внутри, как-то устрашающе похож на свою внешнюю Оболочку. Только глаза у него со стальным жестоким отблеском. Такие, как он, живут без сомнений!
Но что-то я окончательно запутался, где Моя Оболочка, а где Он и его Небылицы.
Ну, вот, наконец-то, они меня нагоняют! Мне это даже уже интересно, забавно, что ли! Адреналин бурлит в крови, как вода от кипятильника в граненом стакане.
Обожаю кипятильники! И граненые стаканы! Они вызывают у меня ностальгические воспоминания о тех временах, когда в жесткий болгарский кейз типа «дипломат» вместе с бритвой «Харьков», зубной щеткой и бутылкой водки за четыре двенадцать укладывался этот самый кипятильник, который призван был согреть мои сиротливые командировочные вечера в серой, холодной гостинице где-нибудь на краю земли. Даже в том месте, куда попадают лишь такие, как я: специальные люди со специальными целями. Если это было в пределах Родины, то и граненый стакан на треснувшей стеклянной полке в ванной был гарантирован даже с большей вероятностью, чем остальные удобства.
Кипятильник, стакан и вода, подпорченная хлоркой! Это значит – я дома.
Кипятильник, высокий стакан из тонкого стекла (с кипятильником несовместим!) и безвкусная, почти дистиллированная, вода: значит, я в глубоком тылу у «вероятного противника».
Однако кипятильник – главное! Ядро. Все остальное – лишь география.
Но они все же догоняют. Мой черный глазастый «Мерседес» идет ровно, без излишнего напряжения. Двигатель урчит где-то далеко под длинным капотом, а стрелка спидометра гуляет между цифрами 195 и 210. Колеса дробно постукивают о неровности асфальта. Развить еще большую скорость здесь невозможно: шоссе узкое, накрапывает дождь, да, кроме того, очень хочется посмотреть, на что они способны, эти, которые догоняют. Они на мощном, с акульем рылом, стальном BMW.
Вот они обходят меня слева, окно сползает вниз и тот, что сидит рядом с водителем, высовывает в проем длинный ствол «Стечкина». Я тоже приспускаю свое окошко.
– Остановись, падла! А то тебе… – остальное я не слышу, но догадываюсь.
Лицо у стрелка строгое, нервное, злое. И очень юное. О таких говорят – «открытое славянское лицо!»
Он явно боится себя самого, своей жестокой решимости и глубоко запрятанной трусости. Но он предельно возбужден пятиминутной гонкой и мощным оружием в своих руках. Такой выстрелит, если и не по необходимости, то хотя бы из опасения оказаться неприспособленным к беспричинной бойне.
Я зло улыбаюсь, слегка притормаживаю, чтобы пропустить BMW на полкорпуса вперед, правой рукой нащупываю ребристую ручку «Калашникова», выставляю ствол с раструбом в окно и жду, когда BMW вновь поравняется со мной. Это происходит через пару секунд.
«Открытое славянское лицо» вытягивается и становится «чопорно-саксонским», почти непроницаемым, с искрой изумления.
Через десять секунд я еду по шоссе в одиночестве. Стальная акула свернула куда-то с дороги. Не получилось у них остановить меня и отобрать мой новенький «Мерседес». Я еще некоторое время еду, не пряча под сидение автомат. Но, взглянув несколько раз в зеркало заднего вида, слегка притормаживаю и убираю по дальше свое оружие.
Я – победитель! Мне легко и комфортно. «А дорога дальнею лентою вьется…»
Я привык быть победителем. Долой слабость! Никаких сомнений! Поставить на пути ущербности чугунные ежи беспредельной и расчетливой агрессивности! Никого не бояться! И прежде всего, самого себя! У меня тоже – «открытое славянское лицо».
Или вот еще. Некая теплая южно-европейская держава. Форум Большой Восьмерки. Испепеляющая жара: прямо-таки глаза горят и плавятся. Будто пьяный повар, заснув у печки, забыл на огне гигантскую сковороду с блинами. Солнце жарит нещадно, люди обезумели от зноя и нервного напряжения. На небольшой площадке с одноэтажными сооружениями из сборных бетонных блоков толпится, по меньшей мере, полсотни съемочных групп с камерами и микрофонами на длинных черных штангах, столько же радиожурналистов и пишущей братии. Кругом по земле, как змеи, вьются провода.
Быстрее всех летают в одну из бетонных конструкций, к телефонам, репортеры из мировых и местных агентств. Они толкаются в дверях, быстро оглядывают зал, уставленный разборными столами и, увидев свободное место, рвутся к нему, будто солдаты к полевой кухне – сметая все на своем пути. Сухая дробь клавиатуры двух с половиной десятков компьютеров, шелест листов бумаги в трех гигантских копировальных аппаратах, разноязыкая многоголосица, как церковное песнопение на неведомом языке. Ко всему к этому, вокруг бетонных конструкций – злобные псы в поводу у молчаливых, угрюмых полицейских, кофе в пластиковых стаканах и какофония звонков из мобильных телефонов. Броуновское движение, не понятное лишь дилетантам. Для остальных – все привычно, все правильно, все так, как следует, как и ожидалось…