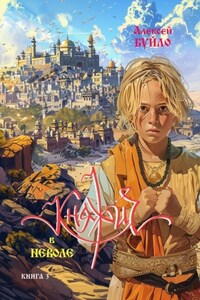Славония,
Месяц Посева и Наречения
Высокий мужчина с густой русой бородой безмолвно застыл на помосте среди шумного зорницкого1 торжища. Седина паутиной покрыла его спутанные волосы, но он был далеко не стар и весьма крепок. Серые глаза равнодушно смотрели вокруг, но, казалось, ничего не видели: в них отражалась лишь неизбывная и непонятная чужим скорбь. Горделивая стать привлекала взоры любопытных, но неведомая сила, проистекавшая от незнакомца, вместе с тем пугала.
Подле на полотняном стульчике восседал молодой кучерявый рамей. Платком он то и дело вытирал пот, градом катившийся со лба от палящих лучей полуденного солнца, и с тоской поглядывал на снующий мимо базарный люд. Время от времени юноша оглашал воздух призывными криками: «Раб! Сильный и послушный раб! За смешную цену!»
– За смешную, говоришь? – раздался рядом грубый голос.
Перед парнем остановился дюжий славон. Загорелый, широколицый, с горбиной на крупном носу. В его дорожное платье намертво въелась красноватая пыль, свидетельствовавшая о том, что он прибыл с севера – из Кладезных гор.
Продавец оживился:
– За смешную, господин! Истинно за смешную. Сто дирхамов2. В Виллазоре за него, – он кивнул на русобородого, – дали бы все триста.
Горбоносый наморщился, производя в голове какие-то вычисления:
– Это пять на десять гривен по-нашему… Дорого! Эдак разорюсь, покуда соберу обоз на рудники.
– Только для вас! – заволновался кучерявый. – Девяносто пять.
Купец обошёл невольника со всех сторон.
– Видок у него какой-то… Ещё издохнет с тоски по дороге. Нет, пожалуй, не возьму.
– Девяносто! – взвыл продавец. – Только из уважения к вам, господин! Поглядите на его мышки3! Коня на раз поднимает. В забое за троих работать сможет!
– Что силён, сам вижу. А ну, как бузить начнёт?
– А уж смирный! – расхвалил свой «товар» торговец. – Вон, я его без цепи держу. Так и быть, отдам за восемьдесят пять.
– Откуда ж этакий благостный раб взялся-то? – хмыкнул покупатель.
– А это уж не твоего ума! – насторожился молодец. Из голоса вдруг исчезли угодливые нотки. – Я в твои дела не лезу, и ты в мои не суйся, почтенный. Покупаешь? Нет? Это моя окончательная цена.
– Странный ты какой-то, рамей. Ваши обычно так дела не ведут. Ну, да ладно. Скажу и я свою последнюю цену: семьдесят пять. По рукам?
Юнец на мгновение замешкался:
– По рукам! – и, обернувшись к невольнику, провозгласил: – Эй, Найдён, вот твой новый хозяин.
ОЛЕШКА не заплакал.
Прежде слёзы, бывало, сами рвались наружу. Без всякого разрешения. По любому горькому поводу. А тут – нет. Ни капельки.
Лишь злость безмолвно заклокотала в горле, когда грубые руки швырнули его за решётку, а за спиной громко лязгнул замок невольничьей клетки.
Но княжич сдержался.
Молча опустился на истёртые щелястые доски, стараясь не смотреть по сторонам. И сжал ладонями уши, чтобы не слышать тоскливый поскрип колёс и непонятные выкрики надсмотрщиков.
Внутри осталась одна пустота – ни мыслей, ни желаний, ни тревог. Ничего!
Пустоту проворно, будто ручей, прорвавший запруду, заполонила усталость. Без остатка. От макушки до пят.
Он захлебнулся в этой усталости. Тёмной и липкой как смола.
Надо выбираться отсюда! Сдаваться нельзя! – ещё пыталось сопротивляться сознание.
Олешка нащупал отчий перстенёк. Помоги!
Но вдруг безумно закружилась голова.
Княжич охнул, и, сжав кольцо в кулаке, сгинул в мрачной пучине беспамятства…
…Вокруг вновь стелилась степь. Но не сухая и безжалостная, а полная цветов и ослепительной зелени. И небо здесь было не песчано-ядовитое, а нежно-синее, с бесконечными стадами белых барашков-облаков.
По степи, в густой траве, брёл одинокий путник в тёмно-синем плаще. Глубокая накидка скрывала лицо. Но что-то очень знакомое сквозило в стати, в движениях странника. До боли знакомое!
Дерзкий торок бесцеремонно сдёрнул накидку назад, обнажив длинные золотые пряди.
От волнения и радости у княжича засвербело в носу.
Ма-а-а-ма!
Он рванул навстречу. Полетел, не чуя ног. И тёплый ветер запутался в его светлых вихрах…
Олешка не вытерпел и чихнул.
Пёстрый степной ковёр превратился в цветастую юбку – грязную и драную. Чужие морщинистые пальцы скользили по его спутанным волосам. Княжич понял, что лежит, уткнувшись в колени старухи-синдки.
Тьфу ты! Росс вскочил.
Увидев, что он пришёл в себя, старуха беззубо заулыбалась и залопотала на своём языке.
Княжич разозлился. И снова уселся посреди клетки, скорчив недовольную ряшку: зачем, старая, оборвала такой хороший сон? Опять он не встретился с мамой, не поговорил, не пожалился. Глупая бабка!
Повозку потряхивало на ухабах.
Солнце уже закатилось за овидь. Сколько он проспал?
По обе стороны большака тянулись все те же полуголые холмы.
На ночлег караванщики остановились в широком распадке.
Олешка слышал, как надсмотрщики смеются и ругаются у костров. Мычали выпряженные из повозок буйволы. Вдали кто-то отрывисто тявкал и подвывал. Нет, не волки. Волков княжич встречал – когда отец брал его на охоту в предгорья. Здешнее зверьё, скуля, словно выпрашивало подаяние. Чакалки, видать, людей почуяли, решил росс.
Пленникам разлили вонючую похлёбку – по одной большой чашке на повозку.
Княжич не притронулся к ней. Есть хотелось зверски – аж живот сводило, но голод не смог пересилить брезгливость при виде бурой жижи. Бе-е-е! Санкино варево из корешков и трав в лесу и то было приятнее для глаз.
Соседи по клетке оказались не столь привередливы. Пищу из чашки черпали прямо руками. Ровно скоты – прости мя, Варок!
Помимо Олешки, в повозке обитало ещё пятеро: та старуха-синдка, три её товарки помоложе – в таких же пёстрых и облезлых платьях, и кучерявый мужичок в рванине – и не поймёшь, какого роду-племени. А…
А где же Санко?!
Княжич растерянно оглянулся.
Вот те раз!
От испуга, что он потерял дружка, затёпало сердце.
Их же вроде вместе тащили!
Вдруг, пока он валялся в беспамятстве, с Санко приключилось что?
Захотелось взвыть. Как те чакалки.
Княжич опять сдержался, но задрожал точно осиновый лист.
Старуха заметила его беспокойство. Вытерла о подол руки. Встала, кряхтя и чуть не опрокинув плошку с похлёбкой.
Вот страшила! Тощая как смерть, не лицо – сушёная слива, седые косицы по пояс, костлявые ручищи.
Чего хочет? И без того худо.
Этими самыми ручищами, серыми от въевшейся грязи, с длинными чёрными ногтями, синдка ухватила княжича за подбородок. Развернула назад – так, что Олешка едва не свихнул шею, ткнула в темноту скрюченным пальцем: мол, туда смотри. И снова провела ладонью по его волосам. От старухи разило кислятиной, росс даже перестал дышать, но послушался и обратился в сгустившиеся сумерки.