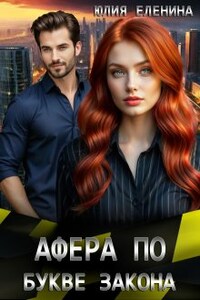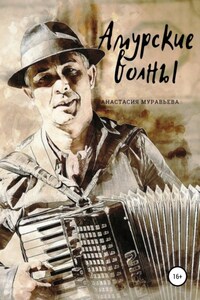1. Пролог - Нулевой километр
На волнах мелкий бисер из воздушных пузырьков. Я сижу на горячем песке, и надо мной колышутся сосны, строгие и вечные, как сама эта земля. Ловлю взгляд на себе — как горячий и тяжёлый песок. Я не поднимаю глаз на своего спутника. Я никогда не показываю ему, как я его боюсь, а сейчас страх смешивается со смущением: мы наедине, на берегу озера. Моё платье намокло и облепило тело. Я начинаю задыхаться от мысли, что он сидит так близко и не сводит с меня глаз.
— Я тебе говорил, что у тебя красивая шея?
“Ох ты ж, чёрт, — проносится в голове. — Вы же не на шею мою сейчас смотрите.” Вместо этого произношу:
— Отвернитесь, чего пялитесь! Или вы лодку спецом перевернули, чтобы мысленно меня всю облапать?
Он отводит глаза, в них отражается солнечный свет, и я замечаю, что они у него ни карие, и даже ни чёрные. Они как тёмно-серое стекло, как хиросимиты, эти слёзы атомного века.
— А тебе на меня, значит, пялиться можно, — он слегка улыбается, и я окончательно вспыхиваю от смущения, уже без примеси какого-либо страха.
— Ладно, пялься, — он стягивает мокрую футболку и аккуратно вешает её на ближайший куст. На футболке из какого-то мягкого полиэстера — принт с каравеллой и Весёлым Роджером.
— Хорошенький из вас пират! — я дерзко фыркаю. — С лодкой не справились!
— Увы, никакой, — добродушно соглашается он. — Такая красотка попала на борт “Пелеиды”, а я её чуть не утопил в озере. А хотел бы утопить в поцелуях.
Да он сдурел? Как он смеет! Тут уже и смущению приходит конец, и я вскакиваю:
— Не расстраивайтесь, вечером утопите этот промах в шмурдяке Лысого.
Но, выходит, делаю себе ещё хуже: платье полностью облепило тело, и я стою как голая, с сжатыми от холодной воды сосками. Боженьки-кошеньки, и ни одного фигового дерева поблизости!
Он тоже вскакивает, и мы на пару мгновений замираем: он уже не улыбается, что-то темное в его лице, строгое и опасное. Я разжимаю губы, хмурюсь.
— Даже не думайте ко мне прикоснуться, я закричу.
Да-а, очень действенная угроза — мы в лесу за километры от людей. Я чувствую, как наворачиваются слёзы, опускаю голову и шепчу с мольбой:
— Не целуйте меня. Только не вы, — я утоплюсь, если ваш поцелуй будет моим первым.
Мой спутник выдыхает и наконец отворачивается. Видит что-то в метре, отходит, проводит пальцами по песку.
— Твоё? — он протягивает мне шпильку. Наши пальцы соприкасаются, когда я беру украшение. Закручиваю мокрые волосы в узел дрожащими руками, но шпилька не может удержать тяжелые от воды пряди.
— Оставь так, — улыбается мой спутник.
Когда он добродушен и спокоен, мне хочется ему хамить из вредности.
— Вам тридцать три года, — говорю я. — Какого чёрта вы затеяли драку с гусём?
2. Глава 1
Дверь из тёмного дуба неприветливо скрипнула. Альберт шагнул вовнутрь и в первые секунды не сразу разглядел барную стойку, настолько тёмным показался ему сам бар. В оформлении зала преобладали багровые оттенки, которые лишь немного разбавляли горящие неоном ярко-зелёные круглые светильники над затемнёнными окнами. Одна из стен, прямо за барной стойкой, была густо усеяна дорожными знаками всех видов и мастей.
У Альберта скользнула мысль, что дизайнер этого интерьера черпал вдохновение на дне не одного хайбола.
Шел седьмой час.
До заката оставалось еще часа четыре, душная южная жара уже спала, но в баре было всего несколько посетителей. Юг Аппай, относительно безопасная часть провинции, нищенствовал, и не каждый мог сейчас позволить себе провести время в кабаках, расслабляясь с друзьями.
Альберт, не колеблясь, выбрал дальний угловой столик. Но даже видя весь зал и чувствуя спиной стену, он не мог полностью расслабиться. Ему приходилось контролировать себя и не оглядывать других посетителей бара чересчур внимательно. Привычка, которая сложилась у него за последние семь лет: всегда следи, кто заходит и выходит из помещения, отмечай каждую деталь, — ты не знаешь, кто ведёт сейчас на тебя охоту.
Много лет назад, когда Альберту пришлось взяться за дело об интернатах “Святой Анны”, его босс, Джулиус Доун, ворчливый и склочный, приземлил Альберта одной фразой. “Ты хочешь открыть сезон охоты на волков? – голос Джулиуса звучал, как всегда, ядовито. – Для этого надо быть как минимум волчатником, а ты ещё щенок грёбанный”.
Депрессивно, но честно. Честно, но депрессивно. Похоже, что эти два определения ещё долго будут идти рука об руку, и у Альберта уже нет никакой уверенности в том, что когда-нибудь они распрощаются.
Да, именно щенок. Влюбился как последний дурак в собственную секретаршу, потерял лицензию, работу, да ещё его и использовали в деле против генерального прокурора. Так попал, что попал. Вернулся на пузе под дядькино крыло. Чуть не спился и поклялся с бабами больше дело не иметь. Впрочем, мать этому радовалась: она надеялась, что сын осядет в Бадкуре, а что решил ходить бобылем, так даже лучше. Женит она Альберта по сговору, как в свое время выдали замуж её, – традиции в Аппайях оставались сильными (“Ах, Берти, пока твой отец не запил, жили-то мы неплохо!”), и внуки станут её новым счастьем.
Альберт пожимал плечами. Как сказать... Отец пил весело, садился на лавке под старым фиговым деревом и заводил разговоры по душам с соседской кошкой.
— Знаешь, кем был мой батька? — с долей иронии вопрошал он равнодушную кошачью морду. — Учёным! Он был большим человеком! И сын у меня будет большим человеком, говорю тебе! А вот твои дети кто? Ха! Мать твою помню. С начала февраля ни одного кота не пропускала, даже с соседским шпицем видел её пару раз. Да и бабка твоя та ещё потаскуха была, между нами.
Кошка презрительно щурилась, поджимала уши, но терпела панибратское похлопывание по загривку, — знала, что монолог обычно заканчивался щедрой подачкой. Может, знала и то, что дед был учёным, а вот старшие дядья, кроме Френка, — из тюрем не выходили, поэтому и могла позволить себе некоторую снисходительность.
Когда отец, разморенный солнцем и алкоголем, наконец умолкал и начинал клевать носом, из дома выходила мать — безропотная, терпеливая, бог манипуляций, как все аппийские женщины, — и с помощью соседей уводила отца в дом. Она никогда не жаловалась на судьбу — даже потеряв во время войны старшего сына. За сутки поседела, надела траур, который так и не сняла, но никого не попрекала. Срывалась она только во время отцовских запоев, которые в последнее время возникали всё чаще.
А потом – семь долгих лет войны. Все это время Альберт со своей частью переходил от села к селу, от города к городу. Да, стрелял, да, убивал, удивлялся себе самому, — сколько же в нем оказалось холодной бешенной ярости и ненависти. Но и говорил с людьми, со всеми, кого встречал на своём пути, и постепенно тот Альберт Лаккара, довоенный, амбициозный, но наивный, ушел куда-то глубоко. В нем не осталось бы и капли человечности за эти семь лет, в нем не осталось ничего от себя самого, но он говорил с людьми, слушал и собирал их истории, чтобы с окончанием войны стать кем-то новым. Голосом своего народа.