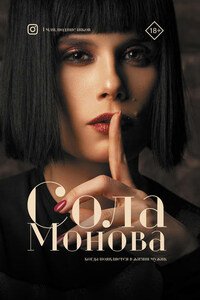Сколько себя помню, я живу в этой пестрой кибитке. Совсем маленьким я спал на одном из огромных кованых сундуков с крепкими навесными замками, потом моей постелью стала ветхая соломенная циновка. До сих пор не понимаю, как она еще не рассыпалась от старости за столько лет.
Кроме сундуков и моего скромного ложа, в кибитке была еще куча вещей: разноцветные коврики висели на стенах и устилали пол, неустойчивой башней громоздились тюки с разнообразным скарбом – от костюмов гимнастов до фальшивых бород и королевских платьев актеров. К потолку часто подвешивали клетки с птицами, из-за чего все вещи в кибитке покрывались слоем перьев и помета. Иногда сюда впихивали еще и мешки с зерном или другими припасами. На правах самых сильных мужчин нашей общины это делали мои старшие братья, легко ворочавшие любые увесистые предметы и при этом беззлобно ругавшие тесноту и захламленность.
Поэтому из людей место в кибитке нашлось только для меня, и это настоящая роскошь. Пусть в неимоверной тесноте, задыхаясь среди удушливых запахов, исходящих от старой одежды, гнилых яблок или картофеля, но я мог какое-то время побыть наедине со своими мыслями и мечтами.
Со временем мне даже удалось расчистить небольшой угол между сундуком, ранее служившим мне постелью, и неаккуратно сложенными декорациями давно не ставившейся пьесы. Там хранились мои немногочисленные сокровища: ловец снов, который я смастерил из орлиных перьев; старые кожаные ножны без перевязи, случайно найденные в одном местечке близ Веенпарка, где, по слухам, когда-то шла кровавая битва; камень с блестящими вкраплениями – я знал, что он не имеет никакой ценности, но мне нравилось воображать, что это не так.
А еще в моем углу был маленький неокрашенный кусочек стены, на котором я иногда рисовал углем. Рисунки получались несовершенные, даже, откровенно говоря, плохие, но я давал в них волю своей фантазии: линии словно оживали и манили в волшебные края, где я был не простым вором и бродягой, а смелым воином, защитником слабых и обездоленных.
Когда-то я задумывался, с самого ли рождения мне была уготована такая судьба? Особенно часто эти мысли приходили ко мне несколько лет назад. Тогда меня посещали странные видения, которые, как мне представлялось, отражали мою прежнюю, таинственную жизнь. Став старше, я принял решение считать, что это все когда-то мне просто приснилось. Но могут ли сны быть такими яркими? Может ли присниться крепкий добротный дом с собственной постелью и огромной печью, тепло которой, казалось, помнят кончики моих пальцев? Почему из раза в раз мне снилась одна и та же красивая женщина, с печальной улыбкой протягивающая ко мне свои нежные руки, и я с замиранием сердца думал, что она моя мать? Мог ли моим настоящим отцом быть суровый бородатый мужчина со смеющимися глазами, из уголков которых разбегались морщинки, а не дэда, угрюмный, низкорослый, скупой на похвалу и доброе слово?
Этих вопросов я никогда никому не задавал, поскольку не помнил другой жизни, кроме езды в разноцветной тесной кибитке по вечно пыльной дороге. Но в неприметном углу за сундуком я много раз пытался (потом, конечно, забросил) нарисовать эти картины. Или, быть может, просто сны…
По правде говоря, даже если б я и захотел спросить дэду о странных видениях, то вряд ли бы он мне ответил. Мужчина, считавшийся моим отцом, никогда не отвечал на вопросы. В нашей общине это было не принято. Единственным человеком, через которого я мог передать дэде просьбу или сообщение, была моя мать. Но чаще всего она говорила: «Ой, Трегор-дин, дитятко, не забивай дэде голову, иди-ка лучше напои коней». И я послушно шел за водой, стараясь не попасться на глаза отцу, пьющему чай в тени растянутого между кибитками тента.
Нзари, называвшаяся моей матерью, одновременно считалась таковой для доброй половины нашей общины. И никто не мог бы сказать с уверенностью, что это так и есть на самом деле. Она была еще нестарой женщиной, но в ее черных волосах уже серебрилась седина, руки давно загрубели и искривились от тяжелой работы, грузное тело утратило упругость и красоту. Ходила она медленно, переваливаясь с боку на бок, шумно дышала и покрывалась потом, стоило ей пройти хоть десяток шагов. Но в женских делах Нзари проявляла проворство: в общине не было никого, кто превосходил бы ее в стряпне, столь же ловко она пряла и вязала. Будучи ребенком, я любил наблюдать за ней; то, с какой скоростью из-под ее спиц выползало разноцветное полотно, казалось мне сродни волшебству.
За работой Нзари всегда пела, ее голос был сильным и красивым. Часто она напевала баллады, что мне особенно нравилось. Я использовал любую возможность остаться подле матери, лишь бы дослушать песню до конца. Такое поведение Нзари истолковывала как мою особую привязанность к ней и, возможно, поэтому привечала меня чуть больше, чем остальных детей. Лишь на самую малость, поскольку дэда не поощрял, чтобы заводились любимчики. Как, впрочем, пресекал и какие бы то ни было другие проявления близких отношений в общине.
Единственным чувством, которое отец внушал каждому из нас, был страх. Его боялись даже мои старшие братья-силачи, поскольку знали, что в худощавом жилистом теле дэды кроется огромная сила, движимая беспощадностью и злостью, а за отворотом поношенного сапога из красной винтильской кожи спрятан острый кривой нож. Дэда часто и легко впадал в гнев и в эти минуты был поистине страшен, а потом очень долго остывал. Немногословный, но при этом обладающий незаурядным умом и смекалкой, он обычно выдавал лишь краткие указания, и не появилось еще в общине человека, который посмел бы их не исполнить. Указания эти зачастую были нехорошие и малоприятные – именно по приказу дэды я начал заниматься воровством.
Наша община кочевала по всей стране и называлась бродячим цирком. Мы показывали представления в городах и селах и тем зарабатывали на пропитание. Мои старшие братья Вознак и Ширу на спор поднимали пудовые гири и бросали друг другу бревна. Аклета и Идзури, считавшиеся моими сестрами, ходили по тонкой проволоке под самым куполом шатра, который мы растягивали на каком-нибудь ровном месте, и кувыркались на трапециях, а после оказывали и другие услуги мужчинам, впечатленным их стройными фигурами в гимнастических трико. Близнецы Айко и Видур, которые были не намного старше меня, разыгрывали спектакли на потеху публике. В зависимости от того, какую пьесу они решали ставить, к ним иногда присоединялась зеленоглазая Радули со своими куклами-марионетками. Были в общине и жонглеры, шпагоглотатели, чревовещатели, гадалки на картах и даже фокусник, старый Мирту, к которому меня определили вроде как в ученики. Хотя все знали, что мне уготована другая участь.