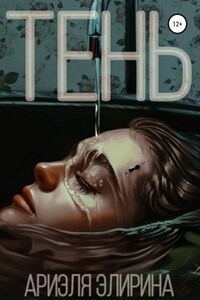Утром, как обычно, бегу на рынок. Чудный выдался денек бабьего лета, в золотую искорку, легкий, игривый, такой, что ноги сами подпрыгивают. В этом году на диво всему городу местные власти занялись благоустройством газонов, главное, запретили дворникам мести их метлами под корень, вот газоны и разлеглись вальяжно, любо глядеть, впрочем, и дождей было вдоволь. Яркая, прямо изумрудная трава… какие-то странные видны красные бугорки подле соседнего дома, присматриваюсь – батюшки-светы, четыре ободранные бычьи головы выложены ромбом. Это что же за «Крестный отец»[1] разыгрывается на нашей улице? Спешу перейти на другую сторону.
На следующий день – забылось уже – и ах ты, господи, снова-здорово. Головы явно новые, не заветренные, выверенно повторяют ту же магическую фигуру. Прохожие столбенеют, вытягивают шею, присматриваются… понимая, чертыхаются, шарахаются в сторону.
И так ровно одиннадцать дней. То ли по какому-то зловещему замыслу, то ли случайно совпалось. И никто, конечно, не обращает внимания на бомжиху, что сидит под забором, наблюдает представление. Только уж когда сюр прекратился, а заодно и баба исчезла из поля зрения, зашелестели слухи… А до того люди неохотно обменивались впечатлениями, разве что восклицаниями… Зашуршали предположения: «Уж нет ли здесь какой-нибудь связи с годовщиной одиннадцатого сентября?..» Но более всего утвердился слух, что это бомжиха – заметили, под забором все сидела? – так вот, она хулиганила, таскала головы с мясокомбината.
И надо же, как случается порой – в диффузных завихрениях жизни вдруг сталкивает тебя с человеком, с кем вроде бы нет ничего общего, однако залипнешь на него непредвиденным образом, да еще и не однажды.
Например, в один из летних дней в Академгородке прогуливаемся мы по лесу в нашем семейном «приключенческом» составе: мы с сестрой Еленой, внучка Женя и собака Джерри. Сейчас направляемся к морю Обскому. Эта же дорожка ведет к электричке, почему нам и ясно, что тетка, которую нагоняем, тащится с кулями на станцию. Занесет пару сумок вперед, возвращается за оставленными. К тому же прихрамывает. Все так близко, так понятно, когда рук не хватает.
– Позвольте вам помочь?.. Собачку не бойтесь, она добрая, хоть и ротвейлер.
Подхватываем торбы, компания моя идет впереди, а я, приноравливаясь, ковыляю рядом с женщиной, чтобы не волновалась.
– Ах, право, неловко… Вы здесь живете, работаете?
– Работаю в университете.
– Как интересно. А я в нем училась.
– Когда?
– Давно уж… В шестидесятых. На химфаке.
Разглядываю даму повнимательнее. «Университет» звучит как пароль.
– Ну, не давнее меня. Я с пятьдесят девятого, самый первый набор, геофак. Могли и пересекаться…
Что-то вроде бы есть смутно знакомое. Пожалуй, была хорошенькой. Лицо правильное, только помятое сильно. Впрочем, есть такой возрастной эффект: одни лица старость делает рельефными, благородными, другие, невнятные, кажутся неопрятными. Да и бедность не красит. Задрипанный на ней костюм, сапоги не по сезону. Мне колет руку сломанный зонтик, неудобно торчащий из сумки, еще там какие-то нелепые шмотки…
– Да, знаю, конечно…
– Как интересно…
Она говорит, говорит, нанизывая имена преподавателей наших первых, моих однокурсников-химиков, тот руководил дипломом, та была рецензентом, этим сдавала кандидатский минимум… Беспроигрышный прием – перечень имен, словно набор признаков, не требующих подтверждения, определяет наш статус, среду обитания и соответствующий исторический период.
– Однако я тоже пойду на пляж, – ее веки, допрежде приспущенные вяло на серые скулы, взметываются, выпуская прицельный взгляд.
Я теряюсь… Не до такой же степени, скажет моя сестра. И тут, недалеко от станции, в ложбине, я вижу, отвернув глаза от спутницы… я вижу бивак бомжей, сушится на ветках тряпье, блистает спицами сломанный зонтик…
– Стойбище робинзонов крузо, – говорю я вслух, настигнутая смутной догадкой.
Тем временем мы уже взлазим на высокую платформу, Ленка решительно устраивает поклажу на скамейку:
– Всего доброго. Не стоит благодарности.
Я еще оглядываюсь – женщина, эдак вдруг приободрившись и эдак вдруг вихляясь, направляется прямиком в ложбину.
– Ты сразу поняла? – спрашиваю сестру, и мигом вспоминается мне кособокое это приплясывание…
В общем-то, ничего особенного. В начале девяностых, как принято в Новосибирске, проходил ежегодный фестиваль джаза. Только в тот раз заключительный концерт был вынесен в городской парк. Воскресный жаркий день. На сцене с утра непременный наш шоумен встречает и провожает джазовые оркестры, ансамбли, и снова встречает. Мы, страстные поклонники, рукоплещем, ревем, свистим в четыре пальца, приветствуя каждый пассаж. Постепенно сюда стягиваются праздно-гуляющие, с детьми, с колясками; заглядывает и остается народ с окрестных улиц. Тогда это считалось еще грандиозным событием в городе, что под открытым небом Сибири дуют в трубы «наши дорогие гости из далекой Америки». И не были тогда общепривычны бомжи, их редкий к концу советской власти асоциальный контингент называли просто нищими. Нищая тетка с сумками появляется из глубин парка, подходит вплотную к эстраде. Стоит. Долго. Глядит в лица музыкантов. Начинает притопывать в такт.
А жара во второй половине дня делается совсем нестерпимой. Публика смещается под тень деревьев. В общем, когда тетка уже пляшет вовсю, не выпуская сумок из рук, перед опустевшими рядами она остается одна, на огромной арене вихляется ее комичная кособокая фигурка.
Смех обошел круг, раз, другой и захлебнулся в смешении раздражения, жалости, брезгливости, какого-то непонятного стыда и полупридушенного завистливого восторга. Чуткий наш ведущий отреагировал моментально:
– Танцуйте, друзья, танцуйте!
Не было ничего особенного в телодвижениях этой тетки, никакого нарочитого кривлянья. Мы точно так же бы попрыгивали в ритм, подергивались, имитируя несколько большую, чем на самом деле, раскованность, отчего и возникает в доморощенном дансинге шутливая веселость и доверительность. Молодежь, правда, пляшет самозабвеннее. И маэстро со сцены приглашает:
– Смелее, друзья, смелее! Наши замечательные музыканты стараются для вас!
Мы же словно приросли, прилипли, пригорели к краям сковороды, ни шевельнуться, ни дух перевести. И смотрим неотвязно, как она… В палящем зное негритянских звуков, одна на огромной площади, на выжженном пустыре, под острыми спицами солнца предается какому-то сладострастному, языческому, первобытному обряду…
И надо же, вдруг я вспомнила ее теперь, даже как будто узнала. Я еще оглянулась. Ленка же продолжала путь, не повернув головы. Женька и Джерька уже бежали с крутого обрыва к морю.