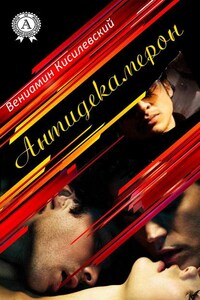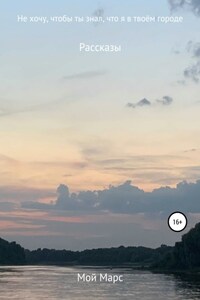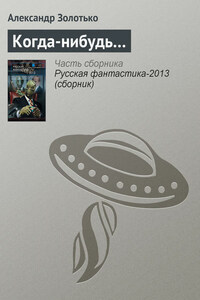Вместо предисловия
Это настолько давний, настолько избитый прием, что прибегать к нему без крайней на то надобности по меньшей мере не гоже. Примеров тому не счесть. К автору вдруг попадает чья-то рукопись, и он, автор, всего лишь предлагает читателю это «случайно» обретенное им чужое творение. Чаще всего – когда речь ведется о событиях, участником или свидетелем которых автор по разным причинам быть не мог. Очень выгодная, кстати, позиция: и сюжет, и мастерство изложения к автору будто бы прямого отношения не имеют, за все просчеты и ляпы ответственности он не несет.
Сейчас этим грешу я – пользуюсь дневником тринадцатилетнего мальчишки, завел он его почти четверть века назад. Могу даже сказать точно: в 1991 году. Но разница, причем очень существенная, в том, что мальчишка этот – я сам. Это мой дневник. Одна из нескольких «общих» тетрадок, которые, уверен я был, давно уже не существуют. Эта же каким-то чудом уцелела, наткнулся я на нее, роясь в поисках затерявшейся папки в старом чемодане, где хранился годами копившийся бумажный хлам. Во всяком случае, не помню, чтобы я (а кроме меня больше некому) клал ее туда. И где тогда остальные тетрадки?
Дневник этот читал я с не ослабевавшим интересом. Любопытны мне былине только сочиненные мною когда-то стихи, перемежавшие страницы дневника, но и подзабывшиеся уже реалии того времени: больничные многоразовые шприцы и капельницы, например, или те прежние цены, как вообще жили мы, чем дорожили. То переломное, раздрайное время, когда вечерами вся страна зачарованно приникала к телеэкранам, когда внимать каждому слову программы «Время» сродни было чуть ли не религиозному обряду, а «Комсомольская правда» была когда-то любимой газетой.
И эти странные, мистические совпадения. Мне сейчас столько же лет, сколько было тогда моему отцу. И у меня тоже теперь сын и дочь того же примерно возраста, как тогда у меня и у сестренки. Читал, вспоминал, дивился самому себе тринадцатилетнему, порой не верилось, что все именно так со мной происходило, что мог я так думать, так поступать. То досадовал на него (себя), то сопереживал, сочувствовал. А потом решил, что неплохо бы опубликовать этот его-мой дневник. Что почитать это нынешним его-моим сверстникам было бы интересно, да и полезно, думаю, тоже.
Долго размышлял я, как технически это исполнить. Проблемы возникали, чего ни коснись. Тем более что нередко писался дневник урывками, с сокращениями, зачастую наспех, не всегда внятно. Кое-что, сугубо личное, вообще никому другому знать не положено. И – самое, пожалуй, главное: каким языком это написать. Хотелось сохранить стиль, тональность того тринадцатилетнего мальчишки, иначе вся эта затея теряла бы не только достоверность, но и смысл. Кому адресовать? Такому же подростку? Человеку взрослому? История далеко ведь не детская, этически сомнительная, а герои ее люди не придуманные – родные, близкие мне люди, которые ко всему прочему повесть эту и прочитать могут.
Получилось в итоге так, как получилось, не мне судить. Могу лишь заверить, что нигде не погрешил я против истины, описал все, как было, разве что предпочел дневниковому жанр повести и придал ей литературный, читаемый вид. Ну и, конечно же, да это и по тексту заметно, присовокупил я кое-какие помнившиеся события, подробности, необходимые для хода, цельности повествования, но сути принципиально не менявшие.
Михаил Огурцов
* * *
Беда почти всегда приходит нежданно-негаданно. Смешно, конечно, полагать, что кто-то безропотно сидит в ожидании очередной пакости. Но всякий раз, когда случается что-нибудь плохое, неприятное, застает нас это врасплох. И очень всегда некстати.
Хвороба никак и никому не может быть кстати. Но если она сваливается на тебя в первые дни весенних каникул – это уже не просто беда. А если, в довершение ко всему, оказываешься в больнице – впору вообще считать себя чемпионом по невезению.
В больницу я ложиться не хотел. Уговаривал врачиху и маму, что и дома прекрасно выздоровею, чуть слезу не пустил. Согласен был на самые горькие пилюли, даже на любые уколы, только бы не увозили никуда. Не то чтобы так уж боялся я больницы, не маленький, в конце концов, ребенок, шестой класс добиваю. Понимал, что ничего страшного там нет, вампиры и привидения по коридорам не ходят. Но до того не хотел – словами не передать.
Мама, понятно, тоже в восторге не была, пыталась отстоять меня. Но врачиха, пожилая, толстая, важная, чем-то похожая на Ольгу Георгиевну, нашу классную руководительницу, и слышать ничего не желала. «Вы разумеете, что у мальчика двусторонняя пневмония? – возмущалась она. – Вы берете на себя ответственность оставить лихорадящего ребенка без постоянного врачебного надзора, без капельницы, невозможной в домашних условиях? Пишите в таком случае расписку». И оскорбленно, точь-в-точь как Ольга, когда ей возражали, поджимала губы.
Увесистые, таящие неведомую опасность слова «пневмония», «капельница», а вслед за ними такие же чугунные «ответственность» и «расписка» доконали нас. Температура у меня была под сорок, знобило, но чувствовал я себя вполне терпимо. Не так, во всяком случае, чтобы не обойтись без больницы и капельницы. И где только умудрился я подцепить эту чертову пневмонию? Не простывал вроде и ног не промочил. Хотя, тысячу раз ведь случалось со мной и то, и другое – и как с гуся вода. Ну, покашляешь немного, посопливишь, даст мама аспирин пару раз – и все дела. А тут еще каникулы, погода хорошая, конец марта… Если уж не повезет…
Затем меня, неизвестно для чего бубнившего «не хочу» и «не буду», одели, укутали сверху одеялом, свезли на лифте вниз и посадили в безносую, с красными крестами санитарную машину. В одном повезло: около дома никого из ребят не было, не видели, как я выглядел, завернутый, точно младенец, в розовое одеяло. Опасался еще, что маме не разрешат поехать со мной, но обошлось.
Мне прежде не доводилось попадать в больницу и, хоть и черные кошки на душе скребли, присматривался и прислушивался там ко всему с негаснущим любопытством. Совсем не так я все это себе представлял. Мы с мамой долго сидели в приемном отделении, ждали, когда «оформят» меня. Заполнялись какие-то бумаги, маму расспрашивали, чем я раньше болел, как рос и развивался, не ломал ли себе чего-нибудь, рост измеряли, взвешивали, даже о здоровье дедушек и бабушек спрашивали, словно это могло иметь какое-то отношение к моему воспалению легких. Будь я врачом, сначала уложил бы больного с высокой температурой в постель, а уж потом бы всем остальным занимался. Устал, болела и кружилась голова, в самом деле ощутил себя хворым и немощным. Потом еще кого-то ждали, какую-то сестру-хозяйку, что-то выясняли, искали. Можно подумать, что до меня никого сюда раньше не принимали, не научились толком.