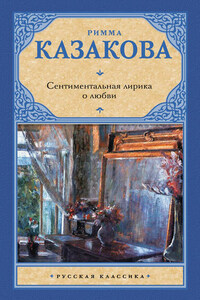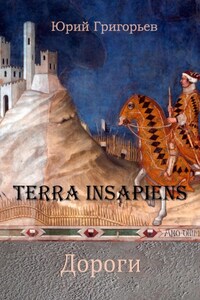«Одиночество не имеет границ, в толпе можно быть таким же одиноким, как и в пустыне, и это состояние зависит только от нас самих. Да, глубокая мысль!» – с иронией подумал я, лежа на солдатской койке, и затягиваясь сигаретой.
Койка была ничем не примечательной: панцирная сетка и железные спинки, окрашенные в салатный цвет. Этот цвет с давних пор стал неизменным спутником моей военной жизни. На кровати лежали подушка, матрац, заправленный постельным бельем, сверху синее шерстяное одеяло.
Мы жили в комнате, специально отведенной нам в бараке солдатской казармы, втроем: я, заместитель командира автороты по технической части Серега Терновой и химик батальона прапорщик Вова Приходько. Серега сладко дремал на соседней койке, а Вова Приходько, лежа на спине, читал газету «Красная звезда». Тихо шелестели переворачиваемые страницы. Прапорщик периодически задрёмывал и тогда шелест прекращался – с его стороны до меня долетало мерное сопение. Потом громкий звук, неосторожные стуки в казарме или чей-то голос за окном будил его, и чтение начиналось снова, причем, как я подозревал, с первой страницы.
«В армии одиночество имеет свою особенность, – продолжил, между тем, лениво размышлять я, – оно никогда не будет полным. Армия похожа на муравейник, где трудно представить одинокого муравья, они всегда что-то делают вместе: несут тростинку или гусеницу. В армии мы тоже служим вместе, тянем лямку и зависим друг от друга. Здесь выбирать не приходится!»
Жаркое июльское солнце, словно огнем сковородку, накалило черепичную крышу нашего барака, как, впрочем, и других помещений военного городка. Лагерный аэродром, где мы тащили службу, затерялся в степи, примерно в двадцати километрах от города Нижняя Калитва в Приазовье. В лагере было пять фанерных бараков с казармами для солдат, техников летчиков, штабное помещение, библиотека, столовая. Отдельно располагалась караулка. Ближе к аэродрому находился автопарк с авиационной техникой и склад горюче-смазочных материалов.
Горячая крыша, тонкие фанерные стены, степной воздух – жаром веяло отовсюду. Бетонные плиты аэродрома грели воздух так немилосердно, словно мартеновская печь плавила сталь в тысячеградусном огне. Только в отличии от стали воздух не стекал вниз, а сизыми слоями стелился над плитами, струился вверх как в пустыне, своими колебаниями создавая ощущение миража.
Я вытер несвежим полотенцем мокрое от пота лицо.
– Витек, пива не осталось? – нарушил тишину Сергей. Он лежал все также, не открывая глаз. В окно билась назойливая муха.
– Утром все выпили, – лениво ответил я.
Терновой потянулся, затем достал сигарету и закурил. Я заметил на его лице довольную улыбку. Только два обстоятельства, известных мне, могли послужить причиной хорошего настроения зампотеха. Во-первых, тот недавно вернулся из отпуска, который проводил в Челябинске и приятные воспоминания еще не затерлись пресными армейскими буднями. Во-вторых, он женился и молодую жену привез с собой, поселил в Нижней Калитве на съемной квартире. Там она ожидала его по вечерам после полетов.
– Представляешь, – сказал Сергей, выпуская струйку дыми, – захожу на челябинском вокзале в туалет, а перед этим выпил два пузыря пива, и стало прямо невмоготу. Встал, делаю свое дело, а тут, рядом какой-то мужичок вертится. С одного бока подошел, с другого, что-то бормочет…
– А чего хотел-то? – поинтересовался я.
Терновой усмехнулся:
– Да ты слушай. Мужичок тот ходил, ходил, а потом говорит: «Какое богатство!» и хвать руками за причиндалы. Оказался педик!
– Ну а ты что?
– Что, что? Двинул по морде!
– А я думал, получил удовольствие, – подключился Вова Приходько, и его физиономия проявила неподдельный интерес. Он поправил очки, отложил газету в сторону. – А что у тебя действительно такой большой? Как у лошади?
– Ну, – Сергей фыркнул и его кровать сотряслась от смеха, – мне хватает, Вова.
Приходько ехидно прищурился.
– Давай-ка уточним в сантиметрах. Если, допустим, двадцать, то гадом буду, пробегу вокруг казармы без трусов.
– Что я тебе, замерял что ли? – удивился Терновой. – Делать больше нечего! Главное, Вова, девчонки были довольны…
– Так мы сейчас и замерим!
Прапорщик взял с солдатской тумбочки, на которой лежали ручки и тетрадки для политзанятий, деревянную линейку и потянулся к ширинке зампотеха, но Терновой не спешил расстегивать штаны. Он смеялся и отталкивал руку Приходько.
Я с улыбкой смотрел на их дурачества – это было хоть какое-то развлечение от безнадежной скуки в нашей серой военной жизни. У Куприна офицеры от безделья хлестали водку. А мы? Мы – дурачились.
Однако замер гениталий зампотеха произвести не удалось. В комнату заглянул командир аэродромной роты капитан Косых. Его высокая фигура застыла в проеме двери, впуская раскаленный уличный воздух. Командиру было лет под сорок, но лицо от чрезмерного употребления спиртного обрюзгло, тело приобрело некую грузность, характерную для любителей крепко выпить и закусить.
– Чем это вы тут занимаетесь? – недоуменно поинтересовался он, оглядывая наше пристанище мутным, неясным взглядом.
– Командир! – быстро нашелся прапорщик, – мы готовимся к политзанятиям. Вон и замполит подтвердит, – он кивнул в мою сторону.
Косых, как все большие люди, был добряком, которых обычно сложно разозлить. Правда, бывали исключения. Рассказывали, что, когда он служил в Польше и зашел после полетов в один из кабачков к нему пристал кто-то из местных жителей, видимо сторонник «Солидарности». Поляк принялся ругать первого попавшегося ему русского разными нехорошими словами. Косых долго терпел, а потом врезал поляку так, что тот пролетел через небольшой зал, попал в туалетную кабинку и сломал унитаз.
Конечно, потом пришлось отвечать. В течение двадцати четырех часов капитана выслали из Польши – он попал служить поначалу в Калужскую область, а затем перевелся в нашу часть.
– Выпить не найдется? – спросил командир роты, переступив, наконец, порог комнаты и закрыв за собой дверь.
На одной из тумбочек стояла трехлитровая банка с разведенным спиртом – тридцатником, плотно закрытая полиэтиленовой крышкой. Огненная жидкость в полку употреблялась техниками как антиобледенитель и для протирки деталей. Обычно, в ход шел не чистый спирт, а разбавленный, содержащий крепость тридцать или сорок градусов. Соответственно в обиходе он назывался тридцатником или сороковником. В жару, которая установилась с конца мая, мы его почти не пили.
Однако Косых, тяжело, по-медвежьи ступая, подошел к тумбочке, открыл банку, отчего комната заполнилась густым спиртным духом, и сделал несколько больших глотков. Крупный кадык на горле командира задвигался без остановки, как затвор пулемета, стреляющего длинными очередями. Когда он поставил банку на место, лицо его побурело, а небольшие глазки еще сильнее помутнели. Косых вытер пот со лба рукой и спросил у Тернового: