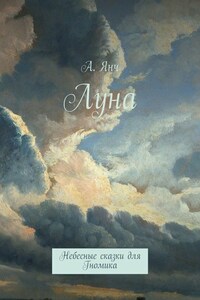Не то, чтоб долго я рождалась, но препорядочное время. Помню, плаваю я в теплой маминой воде, и никакие дурные мысли мне в голову не приходят, и тут природа вдруг стучится в моё убежище и властно приказывает выходить.
Я начала стараться, я старалась почти сутки и вот, посиневшая от нечеловеческого труда, я своею окостеневшей головой, наконец, пробилась на этот свет, так некстати названный белым.
Мама лежала чуть живая, истекая кровью, и тут я издала победный клич на октаву ниже писка всех моих сверстников. Моя часть работы оказалась смертельно опасной, но я одержала первую победу. И вот она началась – жизнь.
Тяжесть моего рождения объяснялась тем, что природа долго не желала давать мне сигнал на выход, и от этого я появилась, имея большие преференции – у меня оказалась твердая голова, лишенная всяких недостатков, что позволило устремиться к цели семимильными шагами. В полгода я уже говорила и (хотелось написать писала, но это было бы враньем) ходила, держась за руку, за лавку, за диван и за всё, что для этого годилось. Ползать мне просто не приходило в голову.
Но тут немцы начали бомбить мой город.
Помню, все спускались в бомбоубежище с плохим настроением, кроме, конечно, меня. Я подбадривала каждого, на меня взглянувшего, ослепительно беззубой улыбкой. И тут бомбежка кончилась сразу за тем, как бомба попала в наш дом. Бабушка падает без памяти, потому что в квартире остался мой дядька Витька. Он всю ночь дежурил на крыше нашего дома, собирая фугаски, но вместе со звуком сирены его дежурство кончилось, и он ушел спать.
К счастью, бомба упала в середину дома, и наше крыло выстояло. И вот мы поднимаемся на наш четвертый этаж – дядька Витька спит сном праведника, прикрытый поверх одеяла настенными часами с маятником и боем. Ни грохота от взрыва бомбы, ни боя часов, упавших со стены, он не слышал.
Я вполне обжилась в этих не простых, но упрощенного комфорта, условиях. Так как не было никаких натуральных продуктов, ни молока, ни сахара, то врачи рекомендовали маме кормить меня грудью столько, сколько она сможет. Я ела и пила исключительно продукт, произведенный моею мамой: подбегала к ней и требовала грудь. Потом мама начала работать в школе, а нянькой пристроили дядьку Витьку. Чем он меня кормил, трудно сказать. Будучи неробкого десятка, к тому же с природной склонностью к экспериментам, (нечего и добавлять, что я унаследовала эти, неплохие в сущности, черты), время от времени он сажал меня на абажур, чтобы поглядеть, как я буду добывать пищу. Даже такому неглубокому уму, как мой, быстро становилась очевидной ошибочность его действий, и я требовала компенсации.
Тогда дядька Витька клал меня в коляску, привязывал к ее ручке длинную веревку и отпихивал коляску в дальний конец коридора. Коляска верещала ржавыми сочлененьями, уж не помню, смеялась я или плакала. Тут он выбирал петли веревки, я возвращалась к нему, благодарная за спасение, А он повторял аттракцион снова и снова.
Мой дед, как теперь и я, не мог спокойно жить, если не узнал последние новости. В пять лет моей обязанностью стало читать ему, вернувшемуся с работы, свежую газету. Учили меня читать или я сама овладела этим искусством, еще сидя в утробе мамы, трудно вспомнить. Если у деда выдавался свободный и беззаботный часок, он становился моей куклой. Я собирала его мягкие, тонкие волосы в кисточку, заворачивала лентой и завязывала бантик, эта игра мне нравилась, а вот кукол тряпочных, целлулоидных и прочее барахло я презирала.
Я могла часами играть с большой коробкой карандашей. Каждый карандаш был членом многочисленной группы людей. Там было много детей, много взрослых, и все они увлеченно чем-то занимались. Подробнее про эту игру сказать ничего не могу, потому что я выросла и сделалась туповатой.
То, что хочу сейчас рассказать, произошло много раньше карандашей. Это было время, когда голову никак не тормозило тело, я просто не знала о его существовании, да, тело тогда еще не добавилось к моей голове.
Я просыпаюсь в полдень одна и иду по коридору в кухню. Я иду, а под ногами у меня солнце. И вот вхожу в кухню, а она вся – солнце. До этого я, наверняка, видела солнце и раньше, и в кухне оно иногда лежало после обеда, но этот миг я запомнила, потому что он и был тем самым недосягаемым счастьем жизни. Это произошло в первый раз.
Конечно, никто меня больше на абажур не посадит. Время моё прошло. Но немножко я продолжаю жить на абажуре. И не высоко, но сверху. А пока в квартире со счастьем живет еще одна семья и в ней мальчик Миша. У него большая голова и полное отсутствие интеллекта. Как только его выводят на улицу, он, не раздумывая, бросается под машину, и взрослые с трудом вытаскивают его из-под колес. Не думаю, что Миша так отважен, мол, выскочу и одержу победу над этим чудищем. Скорее он теряет голову от страха, поэтому бежит не от машины, а прямо на нее. Одно слово – мальчик.
Не подумайте, что я такая злая, и не люблю сверстников: у Миши была сестра Оля, на год меня старше, моя душевная подружка.
Любимой, тайной игрой у нас с Ольгой была игра в ёлку. Ставили в коридоре один табурет, на него другой, перевёрнутый, в него горшок с цветком, самый большой, какой могли поднять. Ёлка готова. Вернее не ёлка, а её начало. Ёлка – это, когда наряженная.
Сначала всё это заматывается бельевой веревкой. Чем больше, тем лучше. На веревке можно вешать всё: носовые платки, фантики, платки другие, шапки, мамину старую шляпку, её прозрачную кофточку, а чтобы блестело, можно втыкать гвозди, засовывать стеклышки от секретов, ложки, скрепки, вилки. Мы работали с Ольгой уже два часа, но всё чего-то не хватало.
Вдруг Ольга оборачивается и кричит: «мама», так что я вздрагиваю. Ее мама с ней не живет, потому что она умерла. Они приехали из Средней Азии после землетрясения уже без мамы. Я поворачиваю голову и вижу очень красивую женщину. Она, ласково улыбаясь, смотрит на елку, потом в полной тишине начинает нам помогать. Как только Оля называет её мамой, она прикладывает палец к губам, как бы говоря: «тише, если будешь шуметь, я исчезну».
Ёлка переливается всеми цветами радуги, ёлка торжествует вместе с нами. И тут у мамы в руках появляется серебряная звезда. Она прикладывает ее к самой верхушке, и мы, не отрывая глаз, смотрим на звезду. В углублениях серебра вспыхивают красные огоньки и змейками выскакивают наружу. Оля плачет. Сначала про себя, потом появляется голос, и в этот момент мама со звездой исчезает. Она просто тает в воздухе.