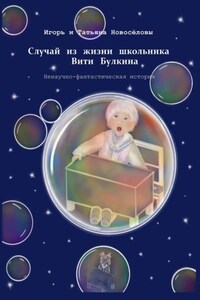К этой публикации меня подтолкнули два события.
Первое из них довольно прозаично. Разбирая недавно свой довольно богатый эпистолярный архив, я обнаружила связку писем от Леонида Исааковича Ройзмана и с интересом их перечитала. С пожелтевших страниц, густо испещрённых неровными строчками, на меня повеяло далёким и, казалось, забытым прошлым: восьмидесятые годы ушедшего столетия, Московская консерватория, период моей ассистентуры-стажировки в классе именитого профессора… Текста было так много, что он явно не вмещался в формат тетрадных листков; тональность писем была такой взволнованной, что это волнение невольно передалось и мне.
Второе событие по времени совпало с первым, но было менее безобидным. Разыскивая в Интернете книгу Ройзмана «Орган в истории русской музыкальной культуры», я случайно набрела на материалы, посвящённые его памяти. Авторы постов, отмечая заслуги Леонида Исааковича в развитии отечественной органной культуры, на первое место выдвигали его роль педагога. Вчитываясь в длинный перечень органистов, вышедших из органного класса Ройзмана, я с удивлением не обнаружила там себя. Задетая за живое, я принялась шарить по сайтам, просматривая всё новые и новые статьи, посвящённые Ройзману, но с возрастающим недоумением так и не смогла отыскать в них своей фамилии. А между тем, я провела в ассистентуре-стажировке под руководством Ройзмана почти четыре года (1984–1987); если считать время до поступления и после окончания – и того больше. Играла концерты, слушала других, общалась – словом, была, что называется, на виду. К тому же, я являлась одним их двух представителей Ленинградской органной школы в его классе, так что обойти меня вниманием было просто невозможно.
Это показалось мне тем более странным, что авторы некоторых материалов были со мной знакомы, более того: многих из них я, будучи в 80-е и 90-е годы ХХ столетия ведущей органисткой академической Капеллы им. Глинки, автором и лектором нескольких абонементных циклов, в том числе органных, приглашала в Ленинград для участия в этих программах.
О причине такого досадного невнимания я могу лишь догадываться. Возможно, ознакомившись с содержанием писем, читателю станет понятен расклад событий и фактов. Но, тем не менее, не разочарование подтолкнуло меня к публикации. Письма Леонида Исааковича настолько содержательны, они затрагивают такие сокровенные проблемы нашего музыкального образования и – шире – нашей музыкальной культуры (и её инверсии – музыкального «бескультурия»), что было бы преступлением с моей стороны умолчать о них. Ройзман на протяжении нескольких десятилетий являлся истинным «генералиссимусом» на отечественном органном фронте; его мнения и суждения, его характеристики многих, в том числе ныне действующих лиц могут расставить фигуры на шахматной доске совершенно иначе, чем этого хотелось бы «вершителям» исторического процесса. Многое из того, о чём пишет Ройзман, неизбежно вызовет шок у ныне здравствующих органистов. Он называет имена и фамилии, приводит факты, вскрывая «гнойник» (это его выражение) тех социальных и человеческих взаимоотношений, которые у нас всегда было принято классифицировать как безупречные.
Следует учитывать, что письма возникали только тогда, когда я уезжала домой в Ленинград. Тех, кто знал Ройзмана – всегда подчёркнуто корректного, замкнутого и несколько отстранённого – не может не удивить тот пылкий, нервный, иногда восторженный, а иногда болезненный тон, в котором они изложены. Остаётся только догадываться о том, чего стоила этому человеку, прошедшему горнило тридцатых, сороковых и пятидесятых годов его внешняя сдержанность. Холодная маска спокойствия на лице и четыре инфаркта в анамнезе – как это типично для того поколения! Надо учесть, что помимо писем были ещё живые беседы – откровенные, горячие, доверительные, я бы даже сказала, исповедальные. Содержание этих бесед навсегда останется при мне, письма же я отправляю гулять по просторам Интернета, в уверенности, что они найдут своего адресата.
Однако для того, чтобы читателю стало понятно, о каких событиях идёт речь, мне придется озадачить его ещё одним вводным разделом, который можно озаглавить как «Воспоминания о Л. И. Ройзмане». В нём я не буду называть всех имён и фамилий – они поднимают неприятную муть со дна моей души; поэтому в некоторых случаях ограничусь лишь инициалами – достаточно того, что в письмах моего любимого профессора они обозначены полностью.
Воспоминания о Л. И. Ройзмане
Ещё будучи студенткой Санкт-Петербургской Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, я стала активно выступать на сцене академической Капеллы им. Глинки. Поначалу мне было предложено читать вступительные «спичи» перед хоровыми, симфоническими и органными концертами, потом к ним добавились и сами концерты. Я много играла – соло и со знаменитым капелльским хором, а также с его солистами, с оркестром и инструменталистами всех видов и родов. Ещё через некоторое время мне доверили составлять абонементные циклы, которые я вела и к которым сама подбирала исполнителей. Таким образом через мои «руки» прошёл не один десяток отечественных органистов, с большинством из которых я сблизилась и подружилась.
Как-то раз мне пришлось читать лекцию перед концертом Ройзмана, и я воспользовалась этой возможностью, чтобы с ним познакомиться. Он сразу понравился мне – прежде всего, своей манерой общения. Внешне сдержанный и немногословный, чуть ироничный, он, тем не менее, сразу откликнулся на моё душевное движение в его сторону. Я почувствовала, что тоже понравилась ему – возможно, именно благодаря тому, что была его полной противоположностью. К моему удивлению, он сразу же согласился меня послушать и пригласил для этого в Москву.
Я рванула туда незамедлительно и была совершенно очарована – и тем «широкоформатным» миром, которым ослепляла московская консерватория (коридоры шириной в Невский проспект! подоконники, на которых мог уместиться квартет! несколько органных классов! четыре часа ежедневных индивидуальных занятий против наших четырёх в неделю!! и т. д. и т. п.), и, главное, совершенно новым для меня стилем преподавания.
В то время я была на третьем курсе питерской консерватории; за плечами у меня оставалась знаменитая школа «Десятилетка» (так её именовали в музыкальном мире) – жёсткая муштра, непреодолимая дистанция между педагогом и учеником, детерминизм во всём – начиная от музыки и кончая поведением в свободном от занятий пространстве. В консерватории – уроки органа у Н. И. Оксентян (тут уж и вовсе бессловесная форма обучения, игра «под указательный палец» с контрапунктом в виде мычания: «М…тати́тата, м… тата-ти́тата»…). С Ройзманом же процесс общения был взаимным: он не только наставлял, советовал, показывал, рекомендовал – он ещё и прислушивался, присматривался, оценивал и время от времени осаживал меня, как осаживают горячую застоявшуюся в конюшне лошадку. Я же, почуяв волю, выплёскивала на него весь пыл своих многолетних исканий и размышлений. Ему можно было доверить все самые острые мысли об органном исполнительстве, все безумные идеи, все творческие пробы и эксперименты. Он ничего не отрицал, ни на чём не настаивал, ни в чём не переубеждал – понимая, видимо, что это бесполезно. Чаще всего он примирительно говорил: «Согласитесь, что, как бы Вы ни были убеждены в своей правоте, как бы безупречно Вы ни играли, всегда нужен сторонний слушатель, который из зала скажет Вам: «Ага! Это не работает! А здесь Вы недотянули!»