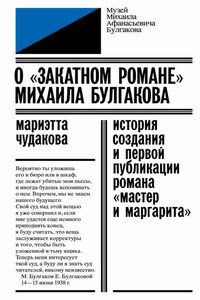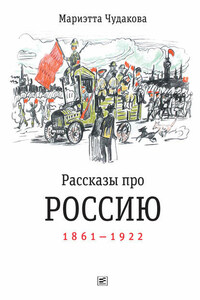«Что это такое – Россия?
Если бы мне задали этот вопрос, разбудив среди ночи, я, вероятно, ответил бы: Пушкин».
И продолжает:
«Я мог бы также сказать: Толстой, Тютчев; первая страница “Мертвых душ”».
Это слова одного из умнейших русских литераторов ХХ века Владимира Вейдле. Ими он начал в 1968 году одну из своих книг – «Безымянная страна» (название свидетельствовало об исчезновении с карты мира слова «Россия» – на многие десятилетия оно было заменено, как известно, аббревиатурой «СССР»).
Автор поясняет, что мысль его была даже не о литературе, а о том, что для таких, как он – навсегда отрезанных жестокой властью от родины, Россия – это русский язык:
«“Шипенье пенистых бокалов”, а то и разговор Селифана с лошадьми, его напутствие шустрой девчонке: “Эх ты, черноногая!” – это и есть Россия: та, где живу, та, что живет во мне. <…> Живу в нем (в русском языке. – М. Ч.) и тем самым живу в России. Довольно мне этой, если нет другой. Ее язык – наш и мой язык. Пушкин, и Толстой, и Селифан, и московские просвирни, и вы, и я, и все мы в нем одно. Оттого и ответил я на тот вопрос, назвав Россию именем ее поэта».
Как любому грамотному русскому человеку, открывшему по какой-то надобности том «Мертвых душ», и мне не удержаться, чтоб не пролистнуть еще несколько страниц дальше нужного места. Волшебное свойство самого загадочного русского писателя Гоголя! И не удержусь – приведу здесь только что упомянутый разговор с лошадьми (ну кому из говорящих и думающих по-русски не охота еще раз его послушать?..) Селифана, каковой,
«довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет <…>. “Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! – говорил Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом ленивца. – Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой – почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему дам с охотою лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель – тож хороший конь… Ну, ну! Что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить! Ишь, куда ползет!” Здесь он опять хлыстнул его кнутом, примолвив: “У, варвар! Бонапарт ты проклятый!..” Потом прикрикнул на всех: “Эй вы, любезные!” – и стегнул по всем трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: “Ты думаешь, что ты скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтоб тебе оказывали почтение”».
Тут дождь «хлынул вдруг как из ведра», и Селифан «схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей».
* * *
Тут и рубеж для моих читателей.
Те из них, кто пришли к печальному выводу, что точка невозврата пройдена, и мы уже никогда не сможем на вопрос о России ответить: Пушкин (поскольку от него в сознании новых поколений осталось одно только имя), никогда не заинтересуем подростков гоголевской Селифановой речью (нигде в России давно ее не слыхать – так нечего к ней и обращаться), – те могут сразу закрыть мою книжку.
Я обращаюсь исключительно к тем, кто готов хотя бы попробовать резко изменить характер преподавания литературы и русского языка в сегодняшних российских школах.
Для начала – предлагаю им разделить несколько моих презумпций. Они просты. И не имеют отношения, как и вся эта книжка, к ЕГЭ, под которые сегодня выстраивают школьное преподавание. Поскольку, по моему твердому убеждению, ЕГЭ приходят и уходят, а Россия, русская литература и русский язык – остаются.
Итак, мои презумпции – вполне элементарные.
1. Язык есть то главное, что делает многочисленные этносы России единой нацией. Мы можем считаться единой нацией, пока изъясняемся на одном, понятном каждому из нас языке, – до тех пор, пока он остается живым, то есть продуктивным. А вот этим мы все должны быть озабочены – начиная со школьных лет.
2. Тесно связанное с языком наше общее литературное наследие – еще одно общенациональное соединяющее нас достояние. Люди одной нации легко перекидываются извлечениями из этого наследия, не сомневаясь, что их поймут:
– Ты все пела? Это дело!
Так поди же попляши!
– * —
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь…
– * —
– А судьи кто?
– * —
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
Когда в России в какой бы то ни было компании называют имена – Евгений Онегин, Печорин, Чичиков, Наташа Ростова, – предполагается, что каждый из присутствующих понимает, о ком идет речь.
Учитель-словесник – кроме него и семьи (увы, не всякой) больше некому! – должен ввести каждого ученика во владение своим наследием. То есть – уравнять его в этом отношении с предшествующими поколениями.
3. Поэзия есть высшая форма цветения родной речи. Поэтому, в отличие от музыки или живописи, которые для какой-то части людей могут оставаться недоступны в течение всей жизни, стихи на родном языке не могут быть недоступны носителю данного языка по причине антропологического порядка.
Доказательства – в своем месте.