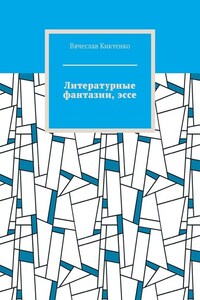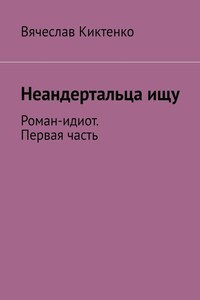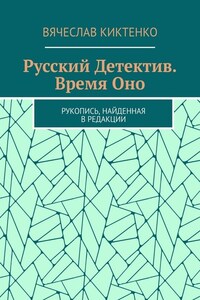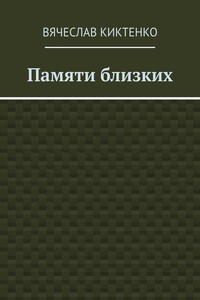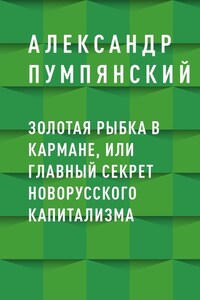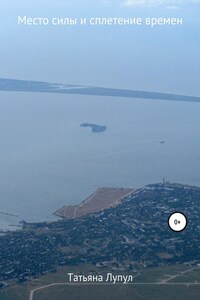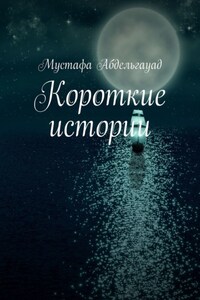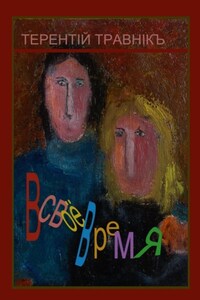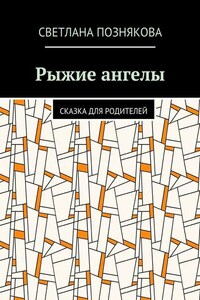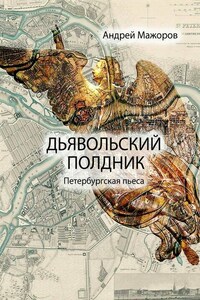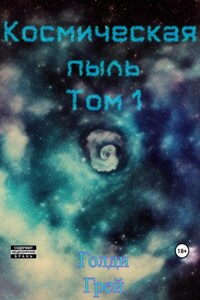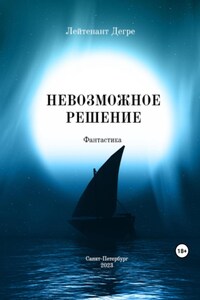СОДЕРЖАНИЕ книги ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФАНТАЗИИ. ЭССЕ:
Маленький ПОЭЗОДЕТКТИВ
Написана грамотка по синему бархату
Русский КОН
Счастье России – дураки и дороги
Коррупции в России нет
Лев Толстой… а возможен ли он?
Бежин луг как судьба России
Лысенковщина в поэзии
Стоит, значит стоит
По графоману тоскую
Венок Булгакову
Россия – Европа. Песня как элемент геополитики
Рога врага и «шорох листьев». О духовном состоянии времени
Дополнение:
Записки старой алмаатинки
…и всё-таки по-собачьи они с людьми изъяснялись – как в стихах, так и в прозе —наши любимые декаденты, наши безумно талантливые пифии, герои «Серебряного века». Словно бы только (или в основном) для «своей стаи», которая уж конечно понимала всё, все детали и намёки, вещали они и пророчествовали. – Да, стая мгновенно понимает любые гримасы, условные знаки, звуки, телодвижения не только вожака, но и каждого члена своей стаи, так сказать – «посвящённого». А как же быть с «непосвящёнными»? Вот тут-то и понимаешь, почему самые великие писатели и поэты отнесены не к «Серебряному», а к «Золотому веку» нашей литературы. Классики 19 века додумывали всё до конца, говорили открыто и ясно, не маскируя пустот, они выражали лишь самое главное. Вот и выходит, что к рядовому читателю относились они гораздо уважительнее, чем их блистательные (это безо всякой иронии) потомки.
А вот нынешним читателям просто непонятно порою: так о чём же у них шла речь тогда, столетие назад, что они имели в виду, что таилось в тех или иных строках, эпиграфах, упоминаниях имён и событий столетней давности, о чём они перешёптывались, перемигивались, перекликались между собою, эти утончённые эстеты, ворожеи, туманные тайновидцы… и почти через одного – гении, собаки этакие! Нет, тут очень часто нужен специалист. Литературовед. Исследователь эпохи. Или – «кинолог», по нашей грубой, но, надеюсь, не оскорбительной аналогии. А что ещё остаётся делать «простому читателю», как не обращаться к специалисту за тем или иным разъяснением? Уж если они так цинично относились к «простым смертным», к «непосвящённым»? Уж не цензура ли царская их так давила? Нет…
Тут вспомнилось, по ходу, что одна из философских школ древности именовалась именно так – «Киники». Или, попроще – Циники. Собаки-философы. Это не было оскорбительно, самого знаменитого из них так и звали: «Собака-Диоген». Да и сам он так себя называл. Выражался притчами, облечёнными в действия, порою не шибко приличные. Быть может, наши декаденты чем-то близки древнегреческим? Ну это в порядке бреда…
А моё предварительное «ворчание» (надеюсь, незлобное) вырвалось потому, что совсем недавно довелось провести личное, почти детективное поэтическое расследование, и вновь углубиться в эпоху «Серебряного века» из-за одной только строчки…
Мы сидели в небольшой, но приятной компании очень искушённых в литературе людей, знатоков поэзии начала 20 века. По ходу занимательной беседы я высказал предположение, что в творчестве Ахматовой очень многих мучает одна строчка, а именно:
«Что знает женщина одна о смертном часе?».
В этой строке мерцает некая неясность, смута души и сердца, ведомая только женщине – так почему-то думается. И, кажется, действительно, именно такая женщина, как Ахматова, должна была знать о смерти более, нежели другие. Да она ведь и реально умирала каждую весну от туберкулёза, от которого умерли её родные сестры. Она совершенно серьёзно предупреждала читателей о том, что в теме ранней смерти нет никакой позы, этот рок стоял над нею и сёстрами с самой юности!..
Сёстры умерли, а сама Анна Андреевна выжила – буквально чудом – и после рождения сына болезнь её совершенно оставила. И она прожила потом долгую жизнь…
Со мною согласились – да, эта строка по-особому волнует каждого, но вот впрямь ли Ахматовская это строка? Не какого ли другого поэта, скорее всего мужчины?..
Немного посомневавшись, я действительно вспомнил, что строка эта – эпиграф к одному из стихотворений. Но вот кто автор эпиграфа, над каким именно стихотворением Ахматовой он поставлен? – В теперешней беседе, без книг, мы не могли определить
этого с уверенностью. Я торжественно пообещал разобраться поподробней на досуге, а собеседники мои в ответ дружно согласились – да, чья бы это ни была строка, у всех она прочно ассоциируется именно с ахматовским творчеством, она уже намертво вписана в целостный облик поэтессы и неотделима от всего корпуса её стихотворений…
Дома я достал знаменитый «чёрный» томик Ахматовой издания 1976 года – самый полный на то время том её стихов, прозы и статей, хорошо мне знакомый, привычный томик, потому и не менял его потом на другие, более полные.
Действительно, эта строка поставлена эпиграфом над одним из стихотворений цикла «В сороковом году». Стихотворение небольшое, приведу его здесь целиком, оно, можно сказать, «вводит в тему» нашего поэзодетектива:
Что знает женщина одна о смертном часе?
О. Мандельштам
Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стёклами карет?
Как спорили тогда – ты ангел или птица!
Соломинкой назвал тебя поэт.
Равно на всех сквозь чёрные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили… А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!
А почему не к лицу? – тут же подумалось невольно – знаменитая «Соломинка», Саломея Николаевна Андроникова, о которой писали, которой бредили влюблённые поэты ахматовского же круга, ничем себя, кажется, не запятнала, так зачем такое отстранение от её образа, или – извинение?..
Это опять к вопросу о «туманах и тайнах», многие из которых, подозреваю, были непременным антуражем эпохи, без них «Серебряный век» оказался бы на поверку пустоватым. Во всяком случае, немало утратил бы в своей «значительности».
Впрочем, это уже стиль, а стиль не оспаривается, как всякий состоявшийся факт, как данность. Тем более, что сами по себе стихи хороши, спору нет. Вопрос тут несколько иного свойства – а почему у Мандельштама как-то не припоминается именно этой строки? Что-то похожее у него вроде бы есть, а вот эта строка насмерть связалась с Ахматовой, и только с ней, почему?..
Тут уже пришлось доставать томик Мандельштама. Знаменитый томик из большой серии «Библиотека поэта», стоивший сумасшедших денег в начале 70-х годов на чёрных рынках. Да разве с таким расстанешься даже теперь, когда есть собрание сочинений? С тем томиком навсегда уже связаны треволнения, за ним стоят кровные усилия, поиски… непомерные для большинства студентов тех лет деньги, в конце концов! Деньги – тоже составная часть детектива, и тут, я думаю, будет простительным ностальгическое отступление. Тем более, что не я один, оказывается, пережил подобное.