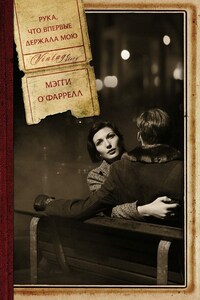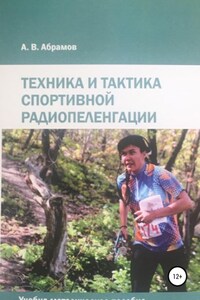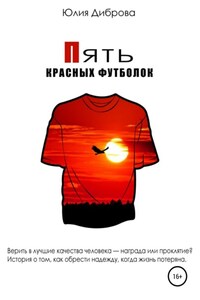«Пиковая дама» Александра Пушкина
Болдинской осенью 1833 года (точная дата неизвестна – октябрь-ноябрь) А. С. Пушкин создал одно из самых известных, как сейчас сказали бы, раскрученных и культовых произведений – небольшую повесть «Пиковая дама».
Это одно из самых новаторских для своего времени произведений поэта (все творчество которого, впрочем, было новацией). Любой исследователь, взявшись за эту повесть, столкнется с некоторыми трудностями, которых избегнул бы в случае с вещью традиционной.
Виссарион Белинский в заключительной статье своей книги «Сочинения Александра Пушкина» уделил «Пиковой даме» всего один короткий абзац. Для критика это – «не повесть, а мастерской рассказ», «анекдот», ценный прежде всего тем, что главные герои «верно очерчены». Итак, Белинский определил жанровую принадлежность произведения не так, как сам автор, и аргументировал свою точку зрения: «для повести содержание „Пиковой дамы“ слишком исключительно и случайно».
Прав ли критик в этом случае? Признать его правоту – значит согласиться с тем, что повесть (и, соответственно, другие, более крупные эпические жанры – роман, эпопея) должна изображать непременно «типические» события, т. е. события без элементов необычного, будь то мистика или фантастика. Сейчас, когда совершенно привычными, ни у кого не вызывающими мыслительной запинки, стали понятия «фантастическая повесть», «мистический роман» или даже «роман ужасов», такая позиция кажется абсолютно неверной. Да и во времена Белинского она была весьма уязвима: по ней выходит, например, что ни одна из повестей Гоголя, с содержанием «слишком исключительным и случайным», повестью не является! Критик не принял в расчет то, что этот жанр (повесть) – разновидность эпоса и в самом своем зарождении не обошелся без фантастики, ведь изначальные его «предки» – не что иное, как сказка и легенда.
Итак, здесь мнение Белинского не стоит считать аксиомой. «Пиковая дама» с точки зрения жанровой принадлежности, безусловно, повесть. Но, разумеется, она необычна – в том же смысле, в каком необычны гоголевские творения, с которыми у творения пушкинского так много общего, что можно считать его своеобразной предтечей всего «петербургского цикла» Гоголя. Все эти повести – фантастические.
В отличие от литературных и кинематографических работников массовой культуры всех времен, великие писатели, обращаясь к фантастике, не ставили задачу поразить читателя-зрителя (а подлинный читатель – всегда зритель, всегда мысленно «экранизирует» читаемое) различными «спецэффектами». Фантастика – лишь один из способов выражения художественной мысли, позволяющий ярко, зримо и доходчиво представить и объяснить нечто такое, что останется в тени, придерживайся автор «реализма» в вульгарном понимании этого слова.
Десятилетия спустя Достоевский заметил, что Эдгар По «только допускает внешнюю возможность неестественного события (…) и, допустив это событие, во всем остальном остается совершенно верен действительности». Безусловно, эти слова возможно отнести и к Пушкинy. Более того: читая «Пиковую даму», мы обнаруживаем, как фантастическое парадоксальным образом «работает» на действительность, позволяет нам лучше понять ее. Не введи нас автор в курс дела, т. е. в сверхъестественные подробности, мы бы остались по поводу странных поступков Германна в таком же недоумении, как несведущие второстепенные персонажи повести. Например, приятелям несчастного игрока – Томскому и Нарумову – не дано было догадаться, что их разговор стал всему причиной.
С этого диалога начинается повесть, и это начало – первый знак своеобразия композиции произведения. Не мудрствуя лукаво, гениальный автор сразу дает толчок всей фабуле. Он пренебрегает долгим предварительным описанием, которое, на первый взгляд, необходимо, дабы читатель получил, до начала событий, доскональное представление о времени и месте действия, о положении и характерах персонажей. Берущегося за чтение «Пиковой дамы» ничто не подготавливает к восприятию сюжета, за исключением двух эпиграфов: одного общего, а другого – относящегося к первой главе. И оказывается, что этого вполне достаточно.
Прочтя первый эпиграф, мы знаем о «тайной недоброжелательности» пиковой дамы задолго до того, как в ней убедится Германн. Второй эпиграф, представляя собой превосходное стихотворение, самый ритм которого способствует усвоению смысла, вводит нас в курс дела, вплоть до погоды за окном игральной комнаты. Собравшиеся в ней игроки, вроде бы полностью скрытые за местоимением «они», – уже как живые перед нами. Так что первое предложение первой главы – «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова» – воспринимается нами как закономерное начало повествования, в курс которого мы уже введены.