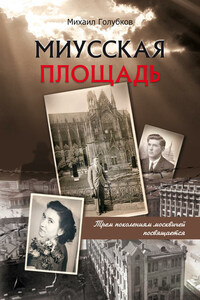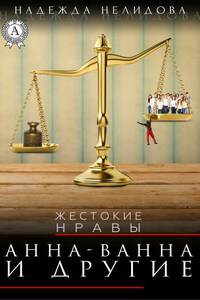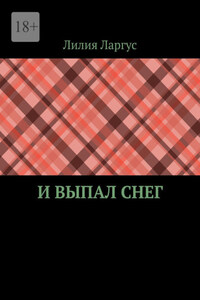Все изложенное здесь вымышлено – нельзя претендовать на достоверность, когда речь идет о событиях, отстоящих от сего дня более чем на пять-семь десятилетий. Но вымышлено лишь отчасти: о них автор узнал от старика, рядом с которым сиживал ребенком на той самой скамейке в московском сквере. И не только от него. Детская память схватывает многое и потом, уже во взрослом возрасте, накладывается на потребность поклониться светлому образу ушедших людей и тому времени, когда они были нужны не только близким.
В сущности, это поклон людям тридцатых годов. И людям пятидесятых.
Одну историческую неточность автор позволил себе сознательно: предсказание Мессинга, свидетелями которого становятся герои, произошло в Варшаве в 1937 году, а не в Берлине в 1933. Впрочем, старик был очевидцем и этого события. Возможно, оно и привело его к попытке постичь некие мистические механизмы, предопределяющие ход общей истории и частной жизни человека, не поддающиеся рациональному истолкованию. Тогда обнаруживается их мистический смысл. ХХ век корректирует наши представления о возможном и вероятном. Так что мистическая интерпретация некоторых событий тех лет, предложенная здесь, не входит в столь уж явное противоречие с суждениями о реальности, порожденными научно-философским, историческим и каждодневным опытом человека, погруженного в действительность ушедшего столетия.
На скамейке в московском сквере сидел старик. Откинувшись на спинку и глубоко засунув зябнущие руки в карманы светлого кашемирового пальто, длинного и старомодного, купленного в Париже еще до войны, он собирал силы, чтобы взять палку, опереться на нее, встать и сделать первые несколько шагов, самых трудных: потом, как бы по инерции, ступать станет легче.
Он был ровесником своего века, ХХ века, и его жизнь вросла в жизнь столетия, слилась с ним нераздельно, и даже одряхлели они одновременно, только вот дряхлость века в 70-е годы была еще не так очевидна, как дряхлость старика. Ему шел семьдесят третий год, и он знал, что это последний год его жизни. Знал давно, уже лет сорок носил это знание в себе. Когда-то думалось, что семьдесят три – это безумно далеко, целая вечность, и никогда эта цифра не приблизится – и вот приблизилась. И действительно, ощущение конца, еще невнятное год назад, сейчас становилось все реальнее. Как будто сама смерть ходит за ним по пятам, ища знакомства, но не решаясь пока представиться, деликатно пропуская вперед в распахнутые двери вагона метро или даже чуть придерживая под локоть, помогая взобраться в троллейбус. Казалось, она хочет заглянуть в лицо, но стесняется слишком уж откровенно выказать свое внимание, как попутный прохожий, обогнав, незаметно оборачивается с наклоном головы, если человек со спины напомнил кого-то знакомого. Но приметы, по которым можно было угадать ее настойчивое внимание, были отнюдь не деликатны, скорее, грубы и не оставляли сомнений: то кожаный футбольный мяч, туго накачанный велосипедным насосом, летел по невероятной траектории из хоккейно-футбольной дворовой коробки, пущенный вратарем, прямо в грудь старику. Или же еще ранней весной, в марте (тогда, пожалуй, и случилось первое проявление настойчивой заинтересованности в знакомстве), лихач-таксист, выворачивая из двора, образованного черемушкинскими пятиэтажками, на заносе задел крылом своей салатовой «Волги», сбив в жесткий, уже талый и потом обледеневший сугроб, оставив лежать старика с разбитым лицом, в том самом длинном старомодном пальто, в котором он сидел сейчас в сквере. Самое странное было то, что люди, которых смерть избирала своими вестниками, вроде бы и не замечали этого: мальчишки подхватили мяч и кинулись в игру, не обратив внимания на старого высокого человека, неуклюже сидящего на тротуаре и тянущегося рукой к далеко отлетевшей палке. Таксист уехал, даже не притормозив, как будто не заметил сбитого человека.
Страха не было, скорее, любопытство: время от времени хотелось резко оглянуться, чтобы увидеть лицо своей смерти. Какое оно? Не может же быть, чтобы в капюшоне, с веселым оскалом и пустыми глазницами? Да еще и с высоко поднятой косой? Какое-то другое, непредставимое, но сколько раз ни оборачивался – за спиной никого не было. Да и что, собственно, спешить? Успеется. Всем живущим успеется увидеть, а ему – очень скоро. Вот только никто из увидевших еще не смог рассказать тем, кто остается, какое оно, это лицо. Можно лишь гадать.
Старик часто спрашивал себя, хорошо ли обладать этим странным знанием – почти точной даты завершения своего земного пути. И уверенно отвечал: хорошо! Хорошо было в тридцать пять, в сорок, в пятьдесят, даже в шестьдесят: можно было легко и уверенно планировать, хоть на десятки лет вперед. Кто мог позволить себе такую роскошь в тридцатые или сороковые? Он же, кладя себе под подушку в захудалой берлинской или парижской гостинице маленький черный «Браунинг», был уверен в том, что либо тот ему не понадобится, либо он сумеет воспользоваться им первым. Именно это давало силы в августе сорок первого, стоя на берлинском перроне, небрежно опустив руку в левый карман брюк, лаская рукоятку того же самого «Браунинга» и слегка покачиваясь с пятки на носок, с высоты своего роста лениво разговаривать с немецким офицером и с легким налетом праздного любопытства разглядывать черную форму, две блестящие молнии в петличках, череп с перекрещенными костями на кокарде высокой фуражки.
Теперь же казалось, что лучше бы этого не знать. Зачем? Ведь легче же его немногим оставшимся сверстникам не знать, когда они умрут – в этом году, через год, через пять? Хотя, в сущности, на что ему были бы нужны эти пять лет? На жену, которая озабочена только своими хворобами? На двух дочерей, давно переставших его замечать и относившихся к нему как к досадной помехе? Дома – лишь дежурные слова, простейшие и однозначные, как сигналы светофора.
Конечно, со стороны это путешествие безо всякой видимой цели через всю Москву могло показаться странным и вполне бессмысленным – это при его-то тяжести и грузности, при том, что так трудно передвигаться, да еще при забитом даже днем метро, при редких троллейбусах на окраине, которые чуть ли не с боем надо брать. А с другой стороны, на что силы? На что их беречь? Остаток сил можно и на прихоть свою потратить.
Старик надеялся, что пересечение огромного для него пространства – из Черемушек на Новослободскую – обернется пересечением столь же огромных временных пластов – из семьдесят третьего в середину тридцатых, точнее, в тридцать третий. Он ехал через всю Москву с мучительной пересадкой на кольцевую линию для того, чтобы разорвать толщу четырех десятилетий и приблизиться к моменту обретения того рокового знания, которое помогало раньше, но угнетало сейчас. Он не был здесь, на своей родной Миусской площади, как раз лет сорок. Абсурд московской жизни: сколько за это время объездил стран, в том же Берлине довоенном знал чуть ли не все переулки, а куда рукой подать – не заглядывал. И ведь каждый день ездил на Смоленскую площадь в свое министерство, а сделать два шага в сторону в голову не приходило. Нужды не было. Нужда пришла, внутренняя, томительная, смутная, только сейчас. В последний год жизни.