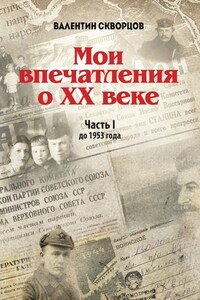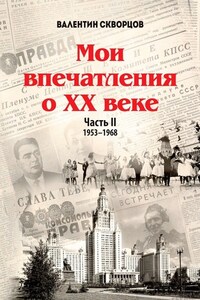Первый год, который я осознал и умел назвать, был 1940-ой. Я тогда начал писать письма папе, которого призвали в армию. По образцу маминых писем я ставил на письмах дату: число, под ним черта, под чертой месяц римскими цифрами, а вокруг этой дроби год. Вот так:
(в этот день мне исполнилось пять лет). Я спрашивал маму, а какой год был до сорокового. Я, конечно, хорошо уже знал цифры и понимал, что числу 40 предшествует 39, но почему-то в применении к календарю это сочетание цифр – 1939 – казалось таким странным. Какая-нибудь старая газета или книжка, помеченная годом тридцать каким-нибудь, вызывала во мне жгучее любопытство как нечто «доисторическое», как нечто из времени «до меня». Хотя многое из четких детских воспоминаний относится, по-видимому, к 38-ому, а кое-что, возможно, и к 37-ому году. Но до 40-ого года я не интересовался календарем. И уж тем более не подозревал, что родился я и рос в самые черные годы века, в одной из двух стран, прежде всего ответственных за ужасы этих лет. И не знал не только тогда, в раннем детстве. Чуть позднее, в годы моей активной комсомольской юности, я бы с гневом обрушился на того, кто бы высказал при мне сомнение в величии времени, в котором живем. Как это здорово получилось, думал я году в 49-ом, что живу в самом центре мира, в самой прекрасной стране, в самое великое время! Но про эти мои размышления – позже.
Мне трудно сейчас привязать к точным датам мои первые жизненные впечатления. Все дело в том, что мое довоенное детство прошло в двух разных квартирах, вернее, в двух разных комнатах в одном и том же доме, и я не знаю, когда мы переехали из одной в другую. Это был деревянный одноэтажный домик с мезонином при сельской школе в деревне Тресковицы Волосовского района Ленинградской области. В нем жили учителя. Мама преподавала русский язык и литературу, а папа, учитель математики, был директором этой семилетней школы. Мы сначала жили в двух маленьких смежных комнатах, а в большой комнате был класс. Видимо, в здании школы не хватало классных комнат. Но потом эта комната перестала служить классом, и мы в нее переехали, а наши маленькие комнаты разделили глухой стеной, проделали к ним отдельные входы из общей кухни, и в них въехали новые жильцы.
Я начинал эти записи, когда были еще живы мои родители, и я многое записал с их слов. Но я никак не мог добиться от них, чтобы они восстановили по каким-то деталям, в каком же году совершился этот переезд – было ли это в 38-ом или в 39-ом году. А это мне важно, потому что если мы переехали в 38-ом году, то все запечатлевшиеся в памяти картинки жизни в мире двух маленьких комнат следует отнести к возрасту до трехлетнего. И среди них такую четко всплывающую сценку.
Я сижу на полу и вместе с девочкой Элей раскладываю какие-то игрушки. Это имя я помню, потому что оно написано на обороте одной нашей детской фотографии. Эля старше меня и живет в другом доме. Ее привели со мной поиграть. На нас сверху смотрит мой папа. Он сидит рядом за столом и занимается. Он улыбается и спрашивает что-то вроде: «С кем это ты играешь?» или «Кто это к нам пришел?» И я очень хорошо помню свое ощущение в тот момент. Я смущенно улыбаюсь и молчу, заторможенный чувством неудобства. Меня, видимо, смущает какая-то неуместность вопроса. Меня не за меня принимают, навязывают не мою роль. Так разговаривают с малышами, а я уже большой. Я чувствовал, что уже перерос такую форму разговора. И было неудобно за папу, за то, что он этого не понимает.
Это мое первое детское воспоминание, в котором запечатлелась не только картинка, но запомнилось внутреннее состояние в этот момент, оценка происходящего. Причем это чисто мое, не навязанное какими-нибудь последующими разговорами взрослых, воспоминание, я его ни с кем никогда не обсуждал.