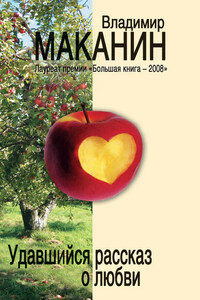Если брать эпиграф, я наверняка знал бы, что очень в данном случае подходит и очень мне нравится: КОГДА ЛЕГКОВЕРЕН И МОЛОД Я БЫЛ. Вот именно. Эта строка.
Легковерен. Такое вот удивляющее слово – и чем дольше в него вдумываешься, тем на душе лучше.
* * *
Вокруг была степь. Полынь, и цвет этой полыни если не совсем белый, то белесый. А посередке этой сплошной белесости, как в молоке, плавало десятка полтора крохотных наших домишек. Полтора десятка домишек – не больше. И вот там я работал.
Мне было двадцать пять, и ни цыкать, ни шуметь на меня было нельзя; противопоказано. И потому, едва лишь Громышев начал шуметь, стало ясно, что я сбегу – именно сегодня сбегу.
– А ну не ори на меня!
Я мог бы, конечно, сказать Громышеву: «Не орите». Все-таки начальник.
– Не ори на меня!
– Никуда ты не уедешь, – отчеканил Громышев.
– Да ну?
– Не уедешь!
Так и сказал. Это ж было просто смешно. Потеха.
– Да ну? – Я засмеялся. – Не уеду?.. Буду в романтику играть? А невеста моя в романтике плохо разбирается – взяла и замуж выскочила.
– Я тут ни при чем.
– Вы мне пели о трудной судьбе, а она в это время замуж выскочила.
– Я тут ни при чем.
– Неужели? А я-то думал, подстроили.
Я уже вышел из себя: я вцепился ему в пиджак и стал трясти, но Громышев раза в два тяжелее меня, как-никак начальник, поэтому с него только пуговицы сыпались. И какие-то карандаши из карманов. Картинка, должно быть, была что надо.
– Не уеду? – тряс и спрашивал его я. – Не уеду? – И опять тряс. Туда-сюда. – Не уеду?
Примчались Колька Жилкин и еще один – тоже из наших, тоже свой. Втроем они справились – зашвырнули меня в наше угловое помещение. И Громышев, весь бурый и без единой пуговицы на пиджаке, подытожил – сказал, что я буду сидеть тут взаперти, пока не остыну и не смирюсь. Смирюсь, он именно так и сказал. Опять он выбрал не те слова.
Глаза мои привыкали. В общем, большая честь. Угловое помещение, в котором меня заперли, было не какой-то там конурой, а состояло из двух комнат. И еще туалет. Можно было даже гордиться: это был отдел, где хранились наиболее ценные детали и приборы. Ну и всякие документы. Что-то вроде архива. А на окнах были решетки.
* * *
И вот я стоял у блокированных окон с решетками. И смотрел. Что было делать?.. Чад погорелого места тянул даже сюда, в закрытое помещение. Проникал, видимо, в щели. День назад случился пожар, и я понимал, что Громышев нервничает.
Я смотрел. Люди там медленно и тихо копошились – растаскивали крестовины. Они стояли по пояс в курящихся голубых дымках. А я этот сладковатый степной дымок вдыхал через щели. Остатки сладки. Пожар, слава богу, вчера начался, вчера и кончился. Грузовая тянула сохранившуюся распорку. Невесть какое, а добро. Машина гудела и тужилась, и казалось, у нее тоже тряслись колени, как тряслись они у меня после всей этой стычки.
– Давай, Петюня, – кричали шоферу, – давай, милый!
Машина тянула задом. Буксовала и фыркала из-под колес землей вполовину с пеплом.
– Давай, милый. Давай еще!
Десять домишек и полсотни людей. И запертый я. И мечущийся возле машин Громышев. Вот и вся компания. Все мы (и наши домишки тоже) лежали на степной глади, как крошки хлеба на большой и ровной скатерти. Будто вот-вот их сгребут великанской ладонью, смахнут. А краями скатерти были еле видные далекие холмы. Такой пейзаж.
Я знал, что сбегу. И как бы прощался.
Я уже – там был, с ней, с Галькой. Клеймил. Изничтожал. Спрашивал, как и почему. Что-то выяснял.
Пытался перескочить пространство, а пространство все еще лежало передо мной – голая степь.
Сначала попутные. И пыль – она тучей заносилась на левую сторону дороги. Помню ночь и мелькнувшую белую церквушку. Церковь ли, мечеть ли? – мелькнула и пропала с неразличимой во тьме религией. А машина с грохотом, с боем бортов летела дальше. Или вдруг шла мягче. Это там, где отары раздолбали дорогу в пыль.
Потом машины свое сделали. Потом был поезд. Потом самолет.
* * *
Я мчался в Москву; я нигде и ничем не был привязан.
Житейская расстановка сил, конечно, была, но самая простенькая. Существовал (и уже как бы не существовал) родной городок – там я осилил школу. Там жила моя матушка. И мой отец. Я уехал оттуда в Москву, где проучился положенных пять лет в институте. А затем распределился в степи, к этому Громышеву. Напел он мне сладких песен. Заманил.
Я барабанил у него три года без двух месяцев. Причем барабанил честь честью. На совесть. Он прописал меня в городишке с симпатичным названием Кукуевск. Дыра невообразимая. Глухомань, как в былинах. Там была база Громышева, и оттуда мы делали свои наезды в степи. Набеги. Нет, мы не были геологами. Мы были строители.
Жить там было негде, прописаться тем более. Поэтому меня прописали у одной хитроумной вдовы. А она была прописана на складе. Она там жила. Спала, варила обед и так далее. Как подробность скажу, что я ей понравился с первого взгляда. Я вдруг очутился за уютным столиком и возле уютной постели, явно перепивший и ничего не соображающий – ее рук дело. Но бог спас.
Были где-то друзья. Были рассеянные по городам однокурсники. Ну и, само собой, была Галька. И Бученков Андрюха. Вот, собственно, и все координаты. Все мои связи. Во времени и в пространстве.
…Помню еще одну картинку – и это тоже было прощанье со степью. До стычки с Громышевым. Я еще не крикнул ему: «Уеду – и кончено!» За час или за два до всего этого.
Я шагал ровной и плоской, как скатерть, степью и думал о письме. О письме, в котором Бученков сообщил мне про Гальку. А дымки, оставшиеся после пожара, еле-еле курились. Вот тебе и ковылек-ковылечек. Белая степная трава – она колыхалась совсем невинно. Мы, дескать, только кустики. Только белые кустики травы. Загорелись, но ведь нечаянно. Мы только белые кустики. Всплески живого на высохшей земле.
Слышался разговор. И рыкала машина. И крики: давай, давай!.. А когда крики стихали, монотонно скулил обгоревший Жулик, наш пес.
* * *
Москва встретила меня как родного – бабьим летом. Деревья в огне. Ворохи листьев – и асфальт сиреневый. Все как надо. Из метро я прямиком кинулся к Бученкову. К Андрею.
– Явился, – сказал я, – по твоему вызову.
– По какому вызову? – Он был растерян.
Шлепал ресницами, как персидская княжна. А в глубине, за поворотом на кухню, маячила его теща. Все, что полагается знать о тещах, я знал. Невелика мудрость. Был вечер, этак часов десять.
– Что, так и будем стоять в прихожей? – Я не скрывал своих желаний.
Мы прошли на кухню. Уже хорошо. Чай как минимум – мелькнуло у меня в голове. Когда Бученков вышел умолять тещу, я сунул руку в их симпатичную хлебницу, отломил кус, мазнул его маслом и съел. Я не умел терпеть. Я проделал это без единого звука.