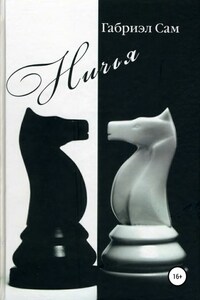Мне исполнилось одиннадцать лет, когда после череды скандалов высокая красивая женщина с густыми светлыми волосами до пояса, которую я называл мамой, исчезла с моряком дядей Славой, разменяв предварительно нашу «однушку» в спальном районе. Общалась она с отцом свысока и с презрением.
Мы с папой переехали в солидное здание на одной из центральных улиц города. До революции в нём проживал градоначальник или другое важное лицо. Фасад был выполнен в классическом стиле, в парадной – изразцовая печь, пол из метлахской плитки, остатки лепнины.
Знаменитой личности, фамилия её не имеет значения для этого рассказа, принадлежал второй этаж, на котором располагались несколько комнат, ванная метров пятнадцати, широкая прихожая и громадная кухня с двумя окнами во двор и выходом на чёрную лестницу. После революции из апартаментов сделали коммуналку, потом разделили квартиру на две. Та, что имела парадный вход, стала отдельной. Её занимал известный в городе врач с женой и двумя детьми: мальчиком, моим одноклассником, и девочкой, пятью годами старше.
Нам с папой досталась узкая комната в другой части бывших покоев градоначальника, со входом по чёрной лестнице через кухню.
У отца появилась подруга Галя, он называл её: «Галчонок».
Два раза в неделю эта женщина с унылым бесцветным лицом приходила к нам стирать и готовить обед, в её жестах сквозило раздражение. Мне было неприятно, когда отец унижался, лебезил перед ней, как раньше перед мамой.
«Галчонок, слишком много стирки, давай поговорю, чтобы был аккуратнее?», – спрашивал он, хлопая ресницами и виновато улыбаясь.
Вопрос звучал, как предательство сына, вроде бы он с чужой тётей заодно против меня.
Птица отвечала:
«Не надо, а то будет пачкать специально».
Специально я ничего не делал, в этом возрасте всё получается случайно.
Я не нравился папиной пассии, она мне – тоже. У неё ли проводил папа вечера, или они вместе ходили куда-то, не знаю, но домой он возвращался, когда я спал.
Мне лень было разогревать борщи и котлеты Галчонка. На кухне стоял холодильник соседей, я доставал оттуда колбасу, сосиску или сардельку и ел их холодными.
Однажды, слышал, как отец объясняется с соседкой в коридоре:
«Не понимаю, зачем он это делает, у нас всегда есть еда, придётся наказывать».
Анна Даниловна, пожилая полная женщина, ответила:
«Не нужно, возможно, мы ошиблись».
То, что нам объясняли в школе, я понимал и запоминал легко, а на домашние задания время не тратил, слонялся по улице, познакомился с местными бездельниками, вместе с ними искал развлечений.
Когда получил двойки в четверти, отец посмотрел на меня, как на конченого человека, а Галчонок пожала плечами и кивнула ему, мол, я тебя предупреждала.
На следующий день папа зашёл за мной в школу, привёл домой, мы пообедали, он поставил на стол электрический чайник, положил печенье, принёс в комнату пустое ведро, замену туалета, сказал, что вечером, проверит, как я сделал уроки, и запер дверь со стороны коридора. Чувствовалась его неуверенность или неловкость за себя, прежде он никогда так не поступал, мне показалось, что «идея» принадлежала Галчонку.
Бросившись на кушетку, я зарыдал. Не отсутствие матери расстраивало меня, ибо всегда чувствовал себя помехой в личной жизни этой, недоступной для сына женщины, не волновали и отношения с папой, которого совершенно не понимал. Превратившись в уличного лоботряса, я оплакивал потерю свободы, ибо «вкусил» её уже сполна.
«Страдания» отрока прервал мужской голос за стенкой. Ещё не поняв, о чём идёт речь, я подметил в нём чёткость, размеренность и спокойную уверенность, отличающиеся от застенчивого бормотания папы.
«Семён, ты должен быть умнее других. Твоя задача – стать первым, потому что ты – еврей».
Удивлённый, я сел на кушетке. Слёзы высохли. Нужно сказать, что от природы я самолюбив и обидчив. Фраза разозлила меня.
Сказать «за стенкой» – не совсем правильно. Квартиры в старых домах имели анфиладную планировку с коридором, идущим параллельно анфиладе. Когда их переделывали в коммуналки, межкомнатные двери закрывали, заколачивали и заклеивали обоями, оставив вход в комнаты из коридора.
И в нашем с папой жилище за перекосившимися, потрескавшимися обоями, покрытыми пылью, виднелась старая дверь с трещинами и выемками от замков.
Я и прежде слышал разговоры, звуки фортепиано, фразы на иностранных языках. За забитой дверью находилось помещение, в котором дети кардиолога из соседней квартиры делали уроки.
Я понял, что с моим одноклассником разговаривал его отец. Сеньку, беззлобного, очень старательного, ребята любили. У нас с ним не было общих приятелей или интересов. Никаких эмоций он во мне не вызывал, кроме сочувствия мальчишке, которому приходилось часами высекать пальцами звуки из «скользкого» инструмента.
«Ты просто обязан учиться лучше всех в классе», – продолжилась тирада.
«Сенька должен быть умнее меня из-за того, что у него другая национальность?» – обиделся я, поднялся с дивана и хотел приняться за уроки. Выяснилось, что домашние задания не записаны в дневник, а дверь в коридор, где на стене висел телефон, закрыта. Мобильники еще не были в ходу.
До этого дня национальный вопрос никого не волновал в нашем классе, но одно исключение было: признанную звезду пятого «Б» звали Маша Манукян. Её папа, армянин, служил начальником милиции, его никто не видел в школе, и представлялся он ребятам свирепым кавказским Бармалеем в милицейской фуражке, а маму, блондинку с большими круглыми светлыми глазами, похожую на девушку с рекламы финского сыра, мы встречали часто. От неё Маша унаследовала нежные черты лица, а от отца – тёмные глаза, в длинных загибающихся ресницах, и жёсткие блестящие волосы. Должность папаши не позволяла вольностей или заигрываний с девочкой. Мальчишки, только, украдкой смотрели в сторону красавицы.