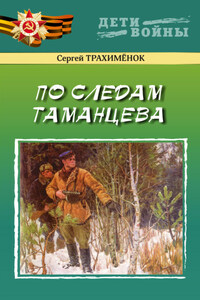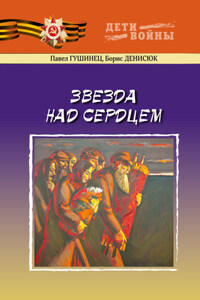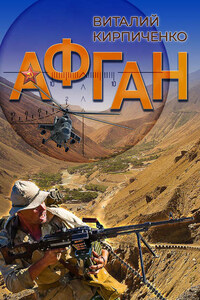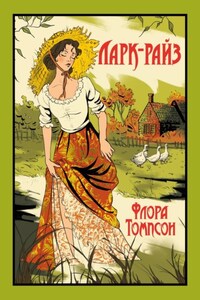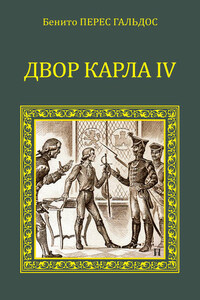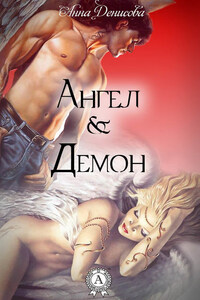Я, к сожалению, не могу похвастать тем, что сидел под развесистым дубом с мудрецом – старцем Толстым, что бродил по тёмным аллеям с Иваном Буниным, до слёз смеялся, слушая Антошу Чехонте. Не распивал чаи с маршалами, хотя служил честно и добросовестно долгих тридцать лет и три года! Хуже того, и с современными светилами я не близок. Получается, что и поведать миру нечего? Ан нет, попробую. Авось, кому-то будет интересно – прожито и видано немало.
Родился я в маленькой сибирской деревеньке под названием Толстовка, и когда вспоминаю мою маленькую родину, мою большую Сибирь, а это случается всё чаще и чаще, то я, прежде всего, вижу холодные бело-голубые крыши, над ними, тоже вымороженный, – блестящий месяц. Белое небо, ясный месяц и чёрный лес вокруг деревеньки да ещё завывание вьюги остались в моей памяти навечно. Забылось многое, а это не вытравить, и каждый раз при воспоминании «рисуются» картины моей родины всё ярче и красочней.
Зимой, перед самой войной, мы (отец, мама, сестра Лиза и я) переехали в русское село Покровку (Толстовка – белорусское поселение), которое прилепилось к северной окраине районного посёлка с названием явно бурятского происхождения – Баяндай. Помню, был морозный день, казалось, что и воздух смёрзся до кисельной густоты. Весь наш скарб вместился в пару саней: на первых ехали мама с папой, при них был сундук, на вторых – мы с Лизой, а с нами, задрав ноги кверху, ехал стол-курятник. Нас закутали так, что даже щелочки для глаз не оставили, а поверх ещё прикрыли шубой из козульего меха. Именно козульего, а не козьего и не косульего, потому что сибиряки козулей называют косулю. Там даже фамилии такие есть – Козулины.
Сани потрескивают от мороза, полозья свистят, пищат, повизгивают, лошади фыркают заиндевевшими ноздрями и швыряют ледяные комья из-под копыт поверх наших шуб. Раскатанная дорога бросает сани из стороны в сторону, и мы с сестрой прижимаемся то к одному бортику, то к другому. На полпути наш поезд останавливается, и мы слышим голос мамы: «Вы живы тут? Не замёрзли? Ногам не холодно?» Наше мычание принимается родителями как свидетельство того, что дети живы, и мы продолжаем свой путь…
Война застала и нас врасплох. С отцом мы сбегали в лавку за водкой, точнее, бежал я, не поспевая за его широкими шагами, вечером пришли к нам соседи, а утром отец уезжал на войну. Я, всё ещё не понимая, что происходит, каким-то особым чутьём воспринимал всю эту круговерть с провожанием, слезами, воем собак, «рыданиями» гармошек, пьяными криками мужиков как что-то ужасное, непоправимое. Я понимал, что и отец как-то связан с этим страшным событием…
Машина увозила отца с мужиками, а я плакал и бежал за ней по пыльной горячей дороге, пока она не скрылась за кромкой леса.
Наша избушка осталась без хозяина, без изгороди, без печи, без утеплённых окон и дверей и растерянно глядела по сторонам с пригорка, обдуваемого семью ветрами.
Печь нам сварганил непригодный для войны дедок, вмазав сверху, вместо недостающих кирпичей, большущий, плоский красный камень – сланец. Этот камень был моим спасением в жестокие сибирские морозы, когда длинными ночами я задыхался от раздирающего грудь сухого кашля. Тогда вставала мама, топила печку, кипятила молоко, поила и журила одновременно своего непоседливого сына, чьи разбитые валенки латал слепой сосед через день, а то и каждый день. Напоив молоком, она подсаживала меня на печь, где я уже самостоятельно мостился на горячий камень, как котёнок на солнечное пятно на подоконнике. Кашель на время отпускал меня, и я засыпал под свирепый вой вьюги в трубе.
А над нашей заснеженной избушкой висел рогатый ясный месяц.
Зимой было не только холодно, но и голодно. Единственный мешок ржи, выданный колхозом за трудодни, было большой проблемой перемолоть в муку. Но вот и до нас дошла очередь, маме дали лошадёнку и сани, мы проводили её в путь.
Остался я с Лизой, ей в то время исполнилось уже десять лет, а мне – пять. Остались одни, без хлеба, соли, с кучкой дров, мгновенно проглоченных прожорливой «буржуйкой».
Прошла неделя, а мамы всё нет.
Ночью, воровски таясь, мы с Лизой брели по глубокому снегу, нагребая его в валенки, к дальней колхозной изгороди. Брали по жёрдочке из этой изгороди и тянули окольными путями, чтобы запутать следы своего тяжкого преступления. Во дворе, при свете глазастой Луны-свидетельницы, распиливали огромной пилой эти жёрдочки, сестра при этом справедливо возмущалась моему неумению, которое заключалось в том, что я не тянул пилу, а бегал за ней, как привязанный. Потом, когда печка раскалялась и сверкала со всех сторон прожженными боками, мы степенно садились у источника тепла, нарезали тонкими пластинками картошку и обклеивали ими сверху и по бокам всю её поверхность. Отскочившие пузырчатые кружочки тут же съедались без соли и прочих приправ. Когда животы наполнялись приятной тяжестью, нас клонило в сон…
Охраняя нас, в ледяное окно избушки то и дело заглядывал серебристый беспокойный месяц.
Утром Лиза убегала в школу, и я не оставался без дела: или стругал что-либо изношенным ножом, или рисовал огрызком карандаша, всунутым для удобства в винтовочную гильзу. Рисовал домик с забором, трубу с дымом, ёлку под крыльцом и, конечно же, танки и самолёты со звёздами – такие же, только с крестами, горящими на всём пространстве, о чём свидетельствовало обилие дыма вокруг крестатой техники. Так я помогал своим бить врага.
В конце второй недели нашего одиночества наведался дед – пришёл узнать, что стряслось с нашей мамой, ведь в то время и за фунт муки лишиться жизни было делом простым. Он застал нас в обычном состоянии: я стругал щепку, стараясь придать ей форму пропеллера, а Лиза, подметая пол, напевала патриотическую песенку про замёрзшую воду во фляге солдата. Деда возмутило наше безразличие к судьбе мамы, он стал ругать и стыдить Лизу, что та «распевае писни, кали маты немае в живых». Мы в это сразу же поверили и разревелись в голос. До этого каждый день мы её ждали, выглядывая в отогретые горячими нашими ладошками проталины в стёклах оконца, выходящего на дорогу, и у нас даже мысли не было, что с мамой может что-то случиться.
Дед ушёл в свою деревню, а мы опять остались одни, только уже с чувством страха за нашу маму. Дед тогда почему-то не принёс своим голодным внукам краюхи хлеба или кусочка сала, видать, спешил, а в спешке и позабыл. И вообще, к нам в эти дни никто не заглядывал, кроме соседки тёти Маруси.
Семья тёти Маруси, как и наша, перебивалась с трудом, несмотря на то, что её муж, дядя Саша (так все звали Эликса Маркуса, пленённого в 1914 году гусара венгерской армии, партизана отряда Каландрашвили, первого председателя колхоза «Путь Сталина», лучшего сапожника в округе), не был взят в армию и был при семье. Не взяли по известной причине – недоверие. Доверили защищать Родину его пятнадцатилетнему сыну Саше, для чего тому пришлось добавить себе парочку лет. Помню, как беспокоилась и переживала тётя Маруся за сына. Она приходила к нам и изливала своё горе маме: «Он же такой маленький, совсем ребёнок, как он там?» Мама, как могла, успокаивала, уверяла, что маленькому проще спрятаться от пули и что он обязательно вернётся домой. Не вернулся. Погиб. Погиб при обороне далёкого Севастополя.