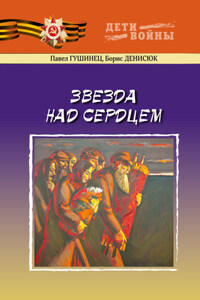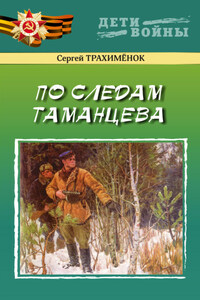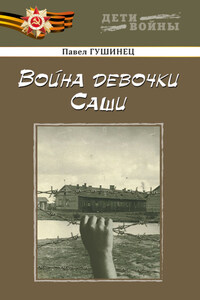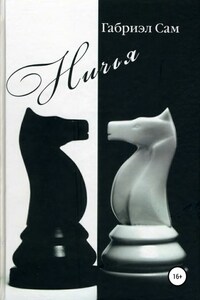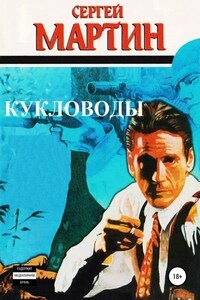Семья Абрама Залманзона – Абрам, Анна, Илья, Лев, Миша
(Борисов, 1941 г.)
Отец приходил с собраний поздно вечером, почти ночью. Молча садился на единственный в комнате табурет, обхватывал голову руками и сидел так, покачиваясь из стороны в сторону. Мать ставила перед ним жалкий ужин – тарелку с одной или двумя оставшимися картофелинами, тоненький, почти прозрачный ломтик хлеба.
– Что делать, что делать? – повторял отец, качаясь на табурете, пугая этим хриплым шёпотом своих и чужих детей.
Мать всхлипывала, вытирала глаза кончиком платка.
– Поешь, поешь, всё будет хорошо.
– Что делать, что делать? – хлипкий табурет издавал какой-то придушенный писк, казалось, он вот-вот развалится под долговязым телом отца, исхудавшего за считанные дни.
– Абрам, да сколько можно? – ворчал сапожник Яков, занявший со своей огромной семьёй другой угол комнаты. – Завтра поднимут ни свет ни заря нужники чистить, а тут ты скрипишь. Ешь и ложись спать!
Отец переставал раскачиваться, медленно, словно нехотя, брал с тарелки картофелину, жевал её, раздавливая языком каждую крошку, прокатывая по нёбу, стараясь продлить миг наслаждения пищей. Остальные отворачивались, не в силах смотреть на то, как другой человек ест. По всей комнате разносилось бурчание голодных животов.
Абрам доедал, облизывал пальцы, потом вытирал их платком. Он всегда был аккуратным, следил за собой. Провизор, окончивший с отличием медицинские курсы, ещё и скрипач, постоянно следивший за своими руками. За несколько недель, проведённых в гетто, его словно подменили. Да и всех подменили. Мыться было негде, одежду стирать негде. Еды всё меньше. Появились вши, было несколько случаев тяжёлых отравлений.
Отец, казалось, опускался быстрее всех. Под ногтями у него появилась несмываемая траурная кайма, лицо заросло неряшливой клочковатой бородой. Изо рта неприятно, кисло пахло. Он мало ел, ещё меньше спал, непривычно тяжело работал. А неделю назад начал ходить на какие-то непонятные собрания, которые устраивал бывший меламед Лейб Чернин. О чём они говорили на этих собраниях, отец никому не рассказывал. Приходил поздно, сидел на табурете, раскачивался. И говорил, будто стонал:
– Что делать? Что делать?
– Зачем ты туда ходишь? – ворчала мать. – Целый день немцы гоняют тебя по всему городу, заставляют чистить нужники, мусорные ямы. И у тебя ещё хватает сил на то, чтоб трепать языком?
– Говорят, скоро нас куда-то повезут, – шептал в ответ Абрам. – Немцы не хотят жить рядом с нами, поэтому, как только возьмут Москву, отправят нас куда-то на юг.
– Ты в это веришь? – голос Анны становился злым, и она с силой прикусывала край платка. – Ты видел, что они сделали с теми, кто не стал их слушать?
– Меламед Лейб Чернин говорит, что надо молиться. Что всемогущий Бог образумит немцев.
– У меламеда от голода размягчение мозга, – снова подавал голос из своего угла сапожник. – Молитвами делу не поможешь. Надо быть храбрыми, надо быть сильными, надо показать этим немцам, что мы тоже люди.
– Бома Кац был храбрым, – отзывался отец. – Он был сильным. Когда к Боме Кацу подошёл полицай Ерепов и назвал его жидом, что сделал Бома? Он ударил его кулаком так, что полицай покатился по земле, поливая её кровью из своего длинного носа. Где теперь этот храбрый Бома? Его расстреляли в первый же день. А Ерепов заклеил расквашенный нос и ходит, воруя сало из наших домов.
Сапожник приподнимался с пола, освобождаясь от объятий, вцепившихся в него детей.
– Так что, так и сдохнуть? Сложить лапки и молиться? Или плясать перед ними, как Хацкель Баранский?
– Хацкель не хотел становиться главным.
– Не хотел – не стал бы, – рубил воздух кулаком сапожник. – Нам не нужны полицаи и немцы. Мы сами отлично справляемся. Такие, как Хацкель, не дадут нам поднять головы. А такие, как меламед Лейб, будут уговаривать молиться.