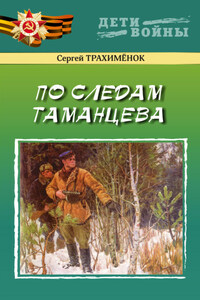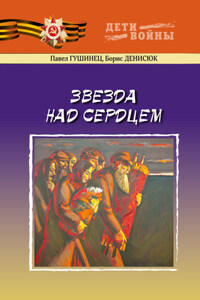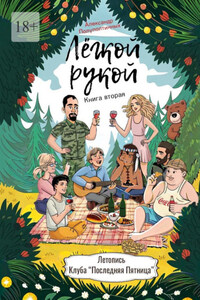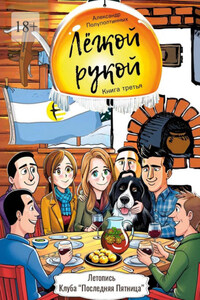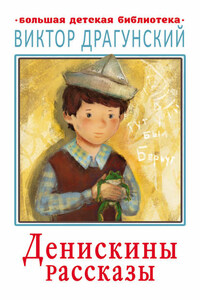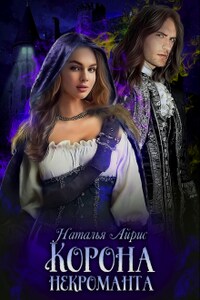Полководцы московского детства
Я, Вера Алексеевна Горбачева, родилась на хуторе Янки Витебской области в 1930 году. Мама умерла сразу после моего рождения. И если бы не случайные обстоятельства, как знать, может, я так и провела бы свое детство на белорусском хуторе в окружении братьев и дальней родни, в трудных и веселых походах за клюквой и вениками для бани.
На Тверском бульваре в Москве со своей женой Анной Фоминичной Ткаченко жил комбриг Алексей Макарыч Горбачев, начальник бронемашины 22-го бронеотряда, награжденный орденом Красного знамени РСФСР. Всех его инициативных и сильных соратников позабирали черные воронки, люди, скакавшие с ним рядом по полям гражданской, сгинули в безвестности. От этой участи моего приемного отца спасло банальное пьянство. Он начал так сильно и тихо пить, что перестал быть интересным для политики, НКВД и даже для милиции. Он родился в деревне Благово под Каширой и вырос хитрым и умным, а главное – умел молчать так, что я до сих пор ничего не знаю. Хотя, подозреваю, что о нем можно было бы написать увлекательный роман. Он так искусно спрятался за пьянством, что отыскать его было трудно даже при жизни, а уж теперь-то…
Детей у них с Анной Фоминичной не было, и она от этого очень страдала. На Тверском бульваре, по соседству, жила тетя Шура Сенкевич. Однажды тетя Шура сказала моей будущей приемной маме:
– Нюра, давай поедем в Белоруссию, к дядьке моего Тимофея! И попросим отдать ребенка.
Она знала, что в мужниной родне есть младенец, потерявший мать. Женщины, недолго думая, собрались и поехали. Зашли к дяде Антону, моему деду, отцу мамы. А в хате – девочка в кроватке за занавесочкой. И моя вторая мама влюбилась в меня с первого взгляда. Отец не решался отдать дочь незнакомым людям. Но братья уговорили:
– Никифор, ты еще молодой, женишься. Отдай девочку! У тебя ж два парня есть!
И Никифор сдался. Тяжело ему было с младенцем управляться. Что-то на этой девочке должно быть надето – и меня нарядили в синюю рубашечку в мелкий беленький цветочек, которую привезла с собой Анна Фоминична. Эта рубашечка до сих пор у меня хранится. Потом младенца завернули в каньевое одеяло и привезли в Москву. Девочка оказалась не простая, а одаренная.
Я бы училась пению, если бы не война. Но еще до войны мама сделала для этого все, что могла. Она была незаурядной женщиной. Макарыч привез ее из Нальчика. Мама никогда не работала, хорошо шила, прекрасно вышивала, обряжала пол-улицы. У нас в доме номер десять жили евреи, они чаще других приносили дорогие ткани, и мама щелкала ножницами над крепдешином, строчила на машинке бостон…
В одиннадцать лет мама начала меня водить в Большой театр, и я уже пела Травиату, Снегурочку, Татьяну Ларину… Маме я обязана своей любовью к музыке. Прямую трансляцию опер по радио мы слушали вместе, любили комментарии. Помню, ходили слушать Барсову – любимую певицу Сталина. Вокалистка с мощным колоратурным сопрано – как она пела «Соловья»! Сама была «соловьем», правда, огромных размеров. Она пела, а мы с подружками на этих концертах подпевали: «Голый сельский соловей!» И так нам было весело!
Мы не носили крестов, икон не было, но мама с тетей Шурой любили ходить на Ваганьковское кладбище, и мы там всегда посещали могилку какого-то отца Валентина. Всегда рядом с ней стояло много народу, говорили про исцеления, мама брала песочек. У нас на Ваганьковском своих могил не было, и мы ходили туда просто гулять. Есенин, Даль, Филипповы-булочники… Шли и шли, читали надписи, останавливались, говорили о великих и их земных судьбах, переходящих в вечность. И становились ближе к ним, уже неземным. Мы ели землянику, краснеющую между могилами, и она полностью соответствовала стихам Марины Цветаевой:
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет!
Мое довоенное детство прошло на Ваганьковском кладбище. Мама ходила и в храм Воскресения Словущего, он находился неподалеку от дома. Теперь и я в него хожу. Храм никогда не закрывался. Напротив бани стояла церковь. Чистенько помывшись, женщины обязательно заходили в церковь и ставили свечи. Это был обычный воскресный маршрут. Сколько раз в детстве мы пробегали мимо церкви, не останавливаясь! В ней шла совсем другая жизнь – горели свечи, теплились лампадки, пели лучшие голоса России…
На улице Неждановой, теперь – в Брюсовом переулке, посреди которого и поныне стоит этот красивый русский храм, жила вся советская оперная элита. Что нам было до того? У нас бурлило, словно вешние воды, неудержимое дворовое детство. Вот летит самолет, а мы кричим, кто громче: «Араплан, араплан, посади меня в карман, а в кармане пусто, выросла капуста!»
Лето. Жара. Наши мамы на веревках развешивают зимнюю одежду – она сушится, выветривается. А они сидят и разговаривают. А мы плещемся в балее с водой. Обстановка патриархальная, почти все – из деревни. И тогда, сидя в балее, я узнала, что я – приемная дочь своих родителей. Кто-то из девочек показал на меня пальцем:
– Да она же не родная!
Я, вся в слезах, побежала к маме:
– Что они такое говорят?
– Да не слушай! – хватает меня на руки. – Они от зависти так говорят…
Так я и думала до самой ее смерти. Только не понимала, от какой зависти? Ведь жили мы так же, как и все. После маминой смерти тетя Шура рассказала всю правду, показала рубашечку… Мир перевернулся. Но пока мама жила, я была уверена – мы родные!