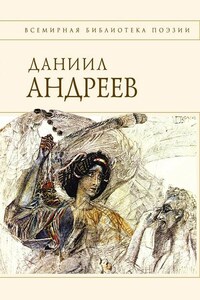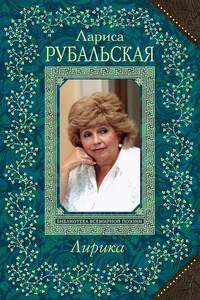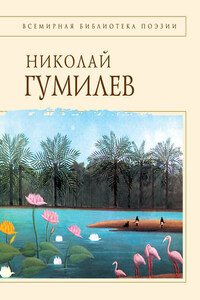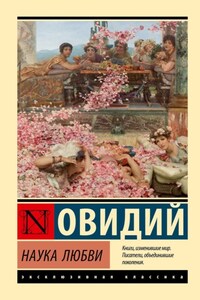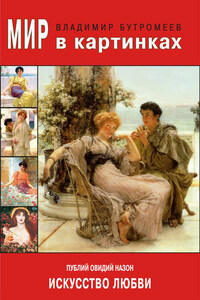Поэт по-разному предстает в своих лирических стихах. Иногда читатель верит, что перед ним – прямая исповедь человека, и через века знакомится с ним. Уже почти двести лет – с эпохи романтизма – мы привыкли требовать именно этого: лирика есть для нас неповторимо-индивидуальное выражение эмоций, которое может быть гарантировано только подлинностью авторского переживания. И невольно те же критерии прилагаются к далекому прошлому: к сонетам Петрарки и Ронсара, к песням трубадуров и вагантов. Нужно усилие над собой, чтобы увидеть: «свежие образы» гениальных поэтов – в том числе и образ автора – взяты ими у предшественников, порой менее именитых, а потом, освященные их именем, повторены десятками последователей. Конечно, великое не становится менее великим, оттого что строится из типических деталей. И все же, подходя к поэзии Античности, Средних веков, Возрождения, необходимо помнить, что традиционное для нее важнее, чем оригинальное, и что традиция определяла не только жанр и форму, но и само изображение поэта. Когда Гораций представлял себя читателю эпикурейским мудрецом, бежавшим в скромную сельскую обитель от страстей и соблазнов города, это имело некоторую биографическую основу, – причем поэт скорее сознательно стремился в жизни следовать рисуемому в стихах образу. Когда лицеист Пушкин стилизовал себя иногда под горацианского сельского мудреца, никакой биографической основы за этим не было: было только следование традиции, идущей издалека и воспринятой через «Арзамас». Зато в зрелых стихах именно Пушкин (наряду с Гете) достиг того абсолютного равновесия литературно-традиционного и индивидуально-биографического, которое сделало его создателем новой русской лирики.
Но то был рубеж многовекового развития, время, когда индивидуальное, непосредственное вливалось в традиционные формы, как «новое вино в мехи ветхие», разрывая их или обновляя.
В римской лирике – начальной точке отсчета для европейской поэзии[1] – ситуация была противоположной: задача состояла в том, чтобы подчинить непосредственную реальность, личную эмоцию, отвоевывавшие себе место в поэзии, упорядоченности искусства. Художническое усилие было столь велико, что от завоеванного однажды нелегко отказывались: оно повторялось, переходя от поэта к поэту и то давая ему готовые формы для воплощения эмоций, то просто эти эмоции подменяя. В этом – специфика римской лирики, рода поэзии, который был живым и развивающимся меньше века.
Публий Овидий Назон писал лирику – то есть стихи от первого лица – в начале и в конце пути. Конец проходил в ссылке – в устье Дуная, среди варваров. Наказание, новая среда, оторванность от привычного мира – все было столь неожиданно и странно, что собственная судьба поэта не могла не стать темой стихов. Дело зашло так далеко, что Овидий сочинил нечто до него небывалое: стихотворную автобиографию («Скорбные элегии»)[2]. Из нее мы узнаем точную дату и место его рождения: 20 марта 43 г. до н. э., городок Сульмон к востоку от Рима. Мы узнаем, что поэт потомственно принадлежал к всадникам – второму в Риме сословию; что отец мечтал о гражданской карьере для сына и ради этого отдал его лучшим учителям красноречия; что у Овидия рано проявилось поэтическое дарование и все интересы были устремлены к стихотворству – к неудовольствию отца, все же заставившего его занять первые гражданские должности. Но – с гордостью пишет Овидий – перед самым вступлением в Сенат он отказался от карьеры, чтобы полностью предаться поэзии, в которой уже добился признания. Из старших поэтов он дружил с Проперцием, остальных же «чтил как богов» – но и сам был чтим младшими; писал много, но все, что считал неудачным, сжигал.
В первой же стропе «автобиографии» Овидий дает себе определение, которое, по сути дела, непереводимо: «tenerorum lusor amorum». «Lusor» – существительное от глагола «ludere» – «играть, шутить, говорить и поступать не всерьез»; то, с чем «шутил, играл» поэт, – «нежная любовь» (tener amor), но любовь тут поставлена во множественном числе. Любовь во множественном числе – что это? «Любовный флирт»? Да, пожалуй, это верно – во всяком случае, для первого сборника стихов Овидия, в заголовке которого стоит слово «Amores» – любовь во множественном числе[3].
В «автобиографии» Овидий указывает и на литературную преемственность своих первых стихов:
Галл, тебе наследником был Тибулл, Тибуллу – Проперций.
Был лишь по времени я в этой четвертым чреде.
Галл, чьи стихи до нас не дошли, создал римскую любовную элегию, Тибулл и Проперций блестяще ее разработали. Жанр этот был чисто римским: архаическая Греция знала назидательную элегию, эпоха эллинизма создала элегию повествовательную, с мифологическим сюжетом. Объединял их только размер: элегический дистих, строка гекзаметра и строка пентаметра. Тем же размером писалась эпиграмма с ее разработкой бесконечно повторяющихся мотивов и пристрастием к любовной и даже эротической теме. Уже в I в. до н. э. эпиграммы писались и в Риме – по-гречески и по-латыни. Вся вторая половина книжки стихов Катулла, зачинателя римской лирики, написана элегическим дистихом; причем часто эпиграмма, обогащаясь новыми мотивами и удлиняясь, превращается в настоящую элегию – в новом, римском смысле слова. Недаром катулловские мотивы мы встретим у всех римских элегиков, включая Овидия.
И не только мотивы: в элегии стала традиционной циклизация стихов, объединенных именем возлюбленной, всегда вымышленным, как имя Лесбии у Катулла. Обязательными в цикле стали сетования на измены подруги, на ее корыстолюбие и все губящую силу золота, на собственное бессилие порвать с недостойной. Из эпиграммы пришла тема жалоб перед ее запертой дверью; закрепились и сетования на мужа и сторожей, мешающих свиданию любящих. Столь же обязателен стал отказ поэта от серьезной – эпической или героической – поэзии. Слова Горация, афористически обобщившего один из основных принципов античной поэзии: «по-своему говорить принадлежащее всем», – в элегии нашли свое самое прямое подтверждение.
Все перечисленное выше мы встречаем и в «Любовных элегиях» («Amores») Овидия. Как и предшественники, он воспевает возлюбленную, скрытую под именем греческой поэтессы Коринны. Но если мы знаем довольно много о прототипе Лесбии Катулла, если нам известны хотя бы подлинные имена воспетых Галлом, Тибуллом, Проперцием женщин, то ни современники Овидия, ни потомки не узнали, кто же была Коринна[4] и была ли она вообще. Ведь все, что пишется о ней, было множество раз перепето, вплоть до конкретнейших тем. Катулл написал стихи на смерть воробья Лесбии – Овидий пишет длинную элегию на смерть попугая Коринны. Он рассказывает свой вещий сон, как Лигдам