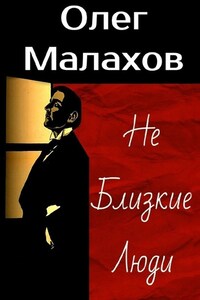Старик Модзалевский впервые после двухнедельного отсутствия явился сегодня на службу – на пристань пароходства «Сом».
Две недели были вычеркнуты из его жизни и проведены в такой невыносимой тоске, что он никогда потом не мог вспомнить об этом времени без ужаса и сердечной боли. За эти две недели в его семье стряслось страшное несчастье: умерла единственная и горячо любимая дочь.
Стариков Модзалевских и их дочь знал и любил весь город. Модзалевский был всего лишь местным пароходным агентом, но благодаря его деятельности, ему приходилось иметь деловые отношения чуть ли не со всем городом: а так как он был чрезвычайно общительный, любезный и приятный в общении человек, то все кто вел с ним дела, очень быстро становились его близкими знакомыми, а иногда даже и друзьями. Его дочь – умная и красивая девушка – считалась одной из самых замечательных и прекрасных барышень в городе. Многие за ней настойчиво ухаживали, делали предложения – и два года тому назад она приняла одно из таких предложений и вышла замуж за молодого доктора. Молодые поселились в одном доме со стариками, жили с ними спокойно и мирно, и все, казалось, шло благополучно. О Модзалевских говорили: «Дом, где смеются».
И вдруг свалилось бессмысленное и ужасное в своей нелепой жестокости несчастье: дочь Модзалевских, Елена, захворала скарлатиной и, промучившись неделю, умерла.
Когда Модзалевский вошел в свою контору, все служащие, которые там находились, замолчали и поднялись со своих мест, и кто с любопытством, а кто с состраданием и изумлением – глядели на него.
Торопливо кивая и ни с кем – против своего обыкновения – не здороваясь за руку, Модзалевский боком, неловко прошел через главную комнату и пробрался в свой кабинет.
Там у заваленного папками окна, выходящего на залитую солнцем Волгу, стоял ближайший сотрудник Модзалевского, главный кассир и бухгалтер, Чакветадзе. Это был простой, прямой и немного резкий грузин средних лет. С ним Модзалевскому было удобно и легко работать, нежели с другими.
Чакветадзе – огромный, сильный и темный, словно бронзовая статуя – спокойно протянул ему гигантскую волосатую ладонь и внимательно, в упор поглядел на него.
– Что ты так смотришь, Иван Иваныч? – запинаясь, пробормотал Модзалевский.
Чакветадзе, собственно, звали Генацвале Джумберович, но кто-то придумал (едва ли даже не он сам) для краткости называть его «Иван Иваныч», – и это обращение утвердилось бесповоротно.
– Напрасно ты приехал – с суровой ласковостью, тоном ворчливой, заботливой няньки промолвил бухгалтер.
– А что?
– Да ведь лица на тебе нет! Смотри, пожалуйста, на кого ты похож? Мы и без тебя справимся. Поезжай-ка обратно домой.
– Надо же и за работу приниматься, Иван Иваныч. – тихо ответил Модзалевский.
И, боясь, что Чакветадзе заведет разговор о его несчастье, он торопливо спросил:
– А что у нас нового?
– Да ничего! – возразил бухгалтер: – что нового? Все старое «Крестьянин» вчера опять на пять часов запоздал. Давно пора убрать его и новый пароход пустить. И пассажиры, которые на него попадают, обижаются… Написать бы в правление…
– А как там «Фортуна»? – спросил Модзалевский про конкурентное пароходное общество.
– «Фортуна» опять жулит! – воскликнул он: – не хочет соглашение соблюдать – и все тут! С Лукашина за груз опять на пятак дешевле взяли.
У грузина даже глаза засверкали от негодования при этих словах.
– И чего они, скажи, пожалуйста, жульничают? Да и Лукашин дурак! Сотню-другую сэкономил, а груз пойдет дольше, да еще и изгадят в пути… Вот мы бы, небось, и скорее и аккуратнее доставили бы.
В другое время эта история взволновала бы Модзалевского. «Фортуна» была обязана взаимным соглашением поддерживать установленные общие цены, но то и дело втихомолку понижало их, завлекая к себе клиентов, нанося тем самым ущерб «Сому» и еще двум другим пароходным обществам. Модзалевский, как агент одного из самых главных обществ, старательно ловил и изобличал «Фортуну» в ее махинациях. Но теперь вся эта возня с «Фортуной» показалось ему чем-то глупым и ненужным.
– Надо будет доложить правлению… Это, в конце концов, глупо. Мы не сыщики, чтобы караулить каждый их шаг. Самое лучшее было бы убрать их из соглашения.
– Вот и я это самое говорю! – подтвердил Чакветадзе. – И чего, собственно спрашивается, бояться? – Конкуренции? Да что может сделать «Фортуна»? Убавить цены? Ну, будут у них новые цены, а пароходы останутся старые, порядки останутся прежние. Дураки, конечно, польстятся на их цены, а потом когда они обожгутся, сразу к нам и прибегут. Да тот же Лукашин к нам придет… Вот только пароходов бы нам побольше: надо вторую линию пустить, тогда от «Фортуны» только название и останется.
Модзалевский молча слушал грузина и все еще боялся, что тот станет расспрашивать о его горе. Но Чакветадзе, попав на свою любимую тему, по-видимому, забыл обо всем остальном и активно жестикулируя говорил без остановки. Говорил так горячо и эмоционально, что у него от волнения даже покраснело лицо.
Его раскатистый голос громко раздавался в светлом, залитом солнцем кабинете. И как бы заодно с ним так же громко и уверенно, в соседних комнатах, щелкали счеты и пробивались билеты. Оттуда же доносились разговоры, смех и неотъемлемый шум рабочей суеты.
Дверь распахнулась, и конторский вахтенный, красивый и светлый юноша, Алексей Владимирович, доложил:
– Николай Павлович, «Гвидон» подходит!
– Близко? – спросил за Модзалевского бухгалтер, прервав сам себя на полуслове.
– Товарищество нефтяного производство прошел.
– Ясно, ступай.
Алексей Владимирович скрылся. Чакветадзе заглянул в окно, совершенно закрыв его своей гигантской фигурой.
– Опаздывают, – промолвил он: – грузятся в последнее время долго они.
Модзалевский почувствовал, что здесь, в привычной и приятной для него обстановке, в общении с приятным, а главное, – посторонним его горю человеком, ему становится легче: он почувствовал себя способным разговаривать о произошедшим. Вместе с тем ему стало понятно, что в этом состоянии неожиданного размягчения он способен расплакаться, завыть и начать биться головой об стену. Его горе перешло из мертвой стадии в стадию живую – более легкую, но более бурную.
Чакветадзе снова принялся рассуждать о «Фортуне». Лукашин, видимо, не давал ему покоя.
– Вот ты бы, Николай Павлович, наверное, сумел бы его уговорить. Обидно же. И денег мы не получим, и он дурак товар испортит. А получилось так из-за того, что ты… – осекся: – ну… занят был.
Разговор принял роковой оборот. Но Модзалевский уже не пытался отклонить Чакветадзе от больной темы. Он молча слушал его, склоняясь над кипой счетов, накладных и телеграмм, и ждал неумолимых, но уже не казавшихся ему теперь нетерпимыми, расспросов.