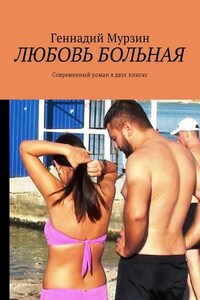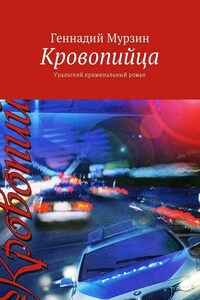Многие-премногие века, еще с древнейших-предревнейших времен известна на Земле необыкновенно чудная страна, обитатели коей, овеянные сонмищем мифов и легенд, сами по себе, кстати говоря, не менее сказочны.
В бесчисленных летописях и народных сказаниях упоминается, можно даже сказать, делается прямо-таки жёсткий упор на то, что страна эта уникально огромна: на самом резвом коне скакать – не перескакать; на быстроходном авто мчаться – не перемчаться; на стремительном и беспрестанно дудящем и пыхтящем поезде неделями надобно ехать – не переехать; лётом лететь на ковре-самолёте – одним днем не перелететь; месяцами плыть бесчисленными морями-океанами – не переплыть. Как справедливо воспевают народные певцы, её, то бишь, сию страну, «глазом не обмеришь, не упомнишь ейных городов». С севера на юг и с юга на север мчат свои воды тысячи бурных рек и речушек, а в них, если верить на все сто процентов обитателям, всякой живности видимо-невидимо, стало быть, закинешь невод и выволочешь на берег столько серебристо подпрыгивающей рыбёхи, что жрать и не пережрать. А дубравы ее? На тыщи вёрст тянутся дремучие леса: их лихие люди пилят-рубят, а все перепилить и перерубить никак не могут. А земли ее? В недрах, сказывают сведущие в сём люди, прячутся несметные сокровища, и не только злато-серебро иль там всякие бриллианты, а и моря нефти и океаны газа.
Живи, короче, самобытная страна да богатей уникально – на счастье и радость ее уникальных обитателей.
Кстати, об обитателях. О них – особое слово, потому как того стоят.
Радетели и благодетели, рядящиеся в патриотическую тогу, мудро подмечают, что оным обитателям весь мир страшенным образом завидует. Всяк злобой полыхает, аки Змей-Горыныч на хитрющего Ванюху-солдатика: испепелил бы, да и он не в силах.
Есть, да-да, есть повод для зависти, ибо никому более на Земле так не повезло. Ну, скажите, кто еще-то может лежать себе на печи да полёживать, а мимо сокровища, не пресекаясь, все плывут да плывут? И ведь, зараза, обитатель сей страны мнёт бока, не зная горюшка, да весело покряхтывает, попивает медовуху крепчайшую да разудало попевает. Иноземец, у коего с нервишками не все в порядке, глядучи на лежебоку, начинает дергаться: чего, дескать, лежмя-то лежать; слезь с печи-то да в лес хоть сходи, дровец наруби.
– Ха! – ответствует обитатель, почёсывая кудлатую и давненько немытую головёнку да громко и протяжно позёвывая, то есть, раздирая хайло во всю ширь, оной страны-чудесницы, страны-кудесницы. – Дурак, что ли, чтобы без нужды потеть? Стоит, – говорит, – мне гаркнуть во весь роток и те самые дровишки, – говорит, – сами примчатся, сами в печь загрузятся, сами возгорятся.
Иноземец очумело вращает шарами.
– А ежели, – спрашивает, – жрать сильно захочется?..
– Хе! А страна моя на что?
– Страна? А при чем тут страна?
– Ну и тупые вы, иноземцы, такие тупые! – выкрикивает в сердцах лежебока. Почесав еще усерднее в затылке, снисходительно поясняет. – У моей страны все самобытно и уникально: мне, к примеру, стоит трижды хлопнуть в ладоши и на моем столе раскинется скатерть-самобранка, так что ешь-пей, сколько душеньке моей захочется.
– Ага! – потирая в удовольствии ладони, восклицает иноземец. – Твои хлопки, да к тому же троекратные, – это уже труд!
– Кто бы спорил, – лежебока хмыкает с печки, – но этот труд, совершаемый мною не потея и в удовольствие.
– Не понимаю, – произносит иноземец и пытается еще что-то произнесть, но ему абориген не дает.
– Где нас понять! Это вы такие простые, такие простые, что взглянешь раз – и все яснее ясного. Нас же надобно подолгу (например, через мелкоскоп) рассматривать, чтобы хоть что-то в нас углядеть. Тем мы и чудесны.
В самом деле, чудное прет из всех щелей. Скажем, в отличие от немца, обитатель-оригинал этой страны на перекрестке не станет тупо стоять и по-бараньи тупо глядеть на светофор, предостерегающе мигающий красным, а ринется, ловко ускользая от колес автомашин и горделиво ухмыляясь, вперед: знай, дескать, наших: мы – увёртливые.
Или тот же француз: ему, тупорылому, даже в голову не придет, чтобы помочиться в лифте, или справить большую нужду на лестничной площадке собственного дома, а обитатель страны, о коей идет речь, сделает всё это, не раздумывая, хотя в нескольких метрах его собственная квартира и с собственным унитазом. Прелесть для него вся в том, чтобы нагадить, чтобы гадость видели и чувствовали другие, чтобы ею соседи дышали полной грудью.
А чопорные англичане, извиняющиеся перед всеми и даже за то, чего они никогда не сделают? От такого занудства, считает наш обитатель, сдохнуть можно; сей абориген считает за честь нахамить любому, обложить по-крупному каждого и опять же обожает все это делать публично.
Иноземец, узрев этакое, только покачает головой. Иногда, правда, после обретения дара речи, все-таки спросит:
– Не стыдно?
В ответ – услышит лишь зычный хохот и вековую мудрость: стыд, дескать, – не дым, глаза не выест.
И японец тоже хорош: снимет взяточку на грош, а после долго-долго кланяется, виновато кается и до конца своей жизни у всех просит прощения. Ну, как тут соседу японца не взъерепениться и не начать плеваться, а? Ведь наш-то брал, берет и будет брать всегда (если не «зеленью», то борзыми щенками непременно) и при этом никаких там угрызений или еще чего-нибудь этакого, диковинно-заморского чуда. Вон, днями молва облетела края-веси: некий полковничек-полицейский заныкал на пыльных антресолях пяток миллиардов. А теперь, только представьте себе, господа буржуи с Запада, каким баблом ворочают тутошние генералы? А министры? А сенаторы? А?.. Стоп! Выше – это святое!
При всем при том обитатель сказочно богатой страны непритязателен в быту: готов десятилетиями жить в какой-нибудь халупе, одеваться во что попало, носить на вечно немытых ногах лапти или, в самом крайнем случае, пластиковые «шлёпки», завезенные одним из юговосточных соседей. И это не по бедности или скупости, а, как сам обитатель заявляет, единственно из-за пользительности для тех же его ног: не преют, говорит, и не потеют, так что тратиться на благовония уже не надо. Стало быть, выгода!
И, наконец, в этой стране отношения между властью и подданными весьма и весьма специфичны. А все дело в том, что народ с необыкновенной страстностью влюбляется в любого, кто над ним восседает, то есть в мудрейших правителей. И дня прожить без вождей – больших или совсем-совсем крохотных – не может. Нет вождя, считает этот народ, значит, жизнь пуста, пресна и, по большому счету, даже омерзительно препротивна. При этом, слушая вождя, тот народец счастливо улыбается, точь-в-точь как младенец, три дня назад покинувший утробу матери и не разумеющий ничего из того, что предстает пред его глазёнками.