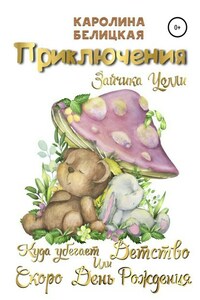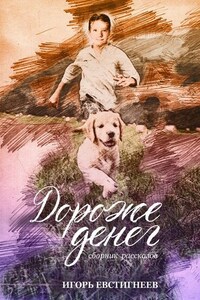Закончилась вторая четверть первого класса. Остались позади скучные длинные уроки и весёлые короткие переменки. В те годы именно первый учитель должен был научить читать, но так как мать озаботилась моим образованием задолго до школы, то могу признаться честно, – мне было совершенно неинтересно наблюдать, как одноклассники мычат, вспоминая название очередной буквы, или произносят слова по слогам, коверкая их музыку. Для меня каждое слово имело свою мелодию, свой запах и цвет, и слышать фальшивые ноты было поистине мучительно. Поэтому, я радовался каникулам, как никто другой. Можно было читать с утра до вечера, не отвлекаясь на посещение уроков, ходить на новогодние представления и по троюродным родственникам, снимая с их ёлок шоколадные игрушки. Однако, пришлось-таки прервать череду прекрасного по своей сути ничегонеделания, чтобы отправиться в школу. Было необходимо заручится поддержкой медсестры, и получить серый листочек с лиловой треугольной печатью, подтверждающий удовлетворительное состояние моего здоровья. Доктор плавательного бассейна вторую неделю требовал эту бумажку, и грозился не допустить к занятиям, если я непременно не принесу её сегодня же.
Зима скрипела под ногами, как влажный коврик из каучука. Пока солнце отвернулось зачем-то, снег сиял неумело и белозубо, без того пошлого брильянтового шика, который сообщают ему обыкновенно звёздные лучи. Видеть двор школы вне муравейника выбежавших на переменку ребят, было непривычно. В промежутках между уроками, под окнами школы бегали почти все мальчишки, и некоторые девочки, те, кто посмелее. Кидали друг в друга снегом и даже наспех лепили снежную бабу, а когда, наполовину мокрые, с руками, такими же красными, как и щёки, возвращались в класс, то непременно находился шутник, который отправлял за шиворот сидящему впереди товарищу приличный кусок снега, от чего тот верещал, едва ли не срывая урок. Впрочем, прежде учителя были намного весомее нынешних, одним лишь взглядом они восстанавливали порядок, и занятия шли своим чередом, а о весёлой переменке напоминало лишь мокрое пятно промеж лопаток пострадавшего, да разухабистая снежная баба с тоненькими веточками вместо рук и кривой ухмылкой хлебной корки.
К окончанию первой смены, наскоро состряпанный снеговик распадался на части, а улыбка доставалась к обеду расторопной вороне.
Пройдя через ворота, я приветливо помахал гипсовому пионеру с горном в руке у входа, и поднявшись по ступенькам, потянул за ручку двери. Разленившаяся за каникулы, она поддалась не сразу, но после недолгого сопротивления с неприятным скрипом впустила меня, всё же, в фойе школы.
Пустым, оно выглядело иначе и казалось не-знакомым. Его угловатые, будто слоновьи ноги, столбы, за которыми было так здорово прятаться на переменках, нависали в полутьме, угрожая затоптать, поэтому я поспешил повернуть в коридор, пройдя по которому, должен был добраться до спасительного кабинета, где обыкновенно проводила свои дни полная улыбчивая медсестра.
Я скоро шёл мимо знакомых дверей, с красиво выведенными на ромбиках надписями «1в», «1г». Мой класс был в другом крыле здания, но мы часто забегали и сюда. В каждой букве училось по сорок человек, и высоких потолков, воздуха, запертого под их сводами, едва хватало на то, чтобы вместить голоса и звуки шагов всех. Ныне же я не узнавал собственных, из-за стука сердца в ушах, который мешал слышать что-либо. Пытаясь немного успокоиться, я подошёл к окну коридора. Было неудобно врываться в кабинет врача в таком растрёпанном виде.
Тем временем, на улице сделалось мрачно, и крупными, как перья из подушки, хлопьями посыпался снег. Я принялся следить за его струями, и вспомнил вдруг, как ранней осенью, когда всё вокруг казалось выкрашенным жёлтой краской, рабочий, беливший школу, выпал из малярной люльки у меня на глазах. Мужчина упал так тихо, обыденно, без какого-либо постороннего звука, словно вещь, а сверху, с оглушительным грохотом на него обрушилось ведро.
В ужасе отскочив от подоконника, так, как будто бы всё это произошло минуту назад, я ощутил спиной что-то мягкое и охнул, решив, что натолкнулся на учителя, но это был не он. Обхватив меня сзади за шею, и не давая возможности повернуться, некто прошептал мне на ухо: «Будешь кричать, зарежу», и подталкивая вперёд, повел в сторону подвала, под лестницу, к забитой досками запасной двери. Этот пролёт был совсем рядом с кабинетом директора, и тем, куда направлялся я, и, если бы мне хватило решимости закричать, меня бы наверняка услышали…
– Ну, вот, молодец, а то всё «завтра, да завтра», – Похвалил доктор, принимая от меня справку. – Чего уж проще, сходил в школу и принёс!
Знал бы он, чего мне это стоило…
Тени
Луна вырезает кружево леса, и серой тенью раскладывает на столе земли. Она делает это весьма точно, прямо по его наружности, по контуру, листочек к листочку, веточка к веточке. И, всё же, что-то мешает счесть его совершенным. Нечто лишнее, не принадлежащее ему, пристроилось сбоку. Несмотря на то, что не совпадающая с абрисом часть сливается с общими очертаниями, и, если ветер сдвигает их немного, перемещается вместе с ними, становится заметно отсутствие мгновенной одновременности истоков. Лёгкая пауза, размером в одну-тридцать вторую, не долее того.
Так, владеющий певческим талантом, может спеть неведомую ему песнь подле того, кто исполнял её не единожды, – отслеживая зарождение звука, первый его трепет, что, собранный по сусекам тайных уголков сердца, касается струн голоса, позволяя вкусить1 мотив.
– Ты не видишь, кто там прячется, в темноте?
– То кошка, прижавшись к упавшей на землю листве, старается слиться с нею.
– Она, седая с рождения, и так еле видна. Я едва не наступил на неё. Что ж она делает там? И так…
– Поджидает появление котят.
– Ах… хитрюга, знает, к кому идти.
Кошка лежит на одном месте и день, и ночь. Она глядит на всех глазами цвета осени. Прикрывая их иногда, чтобы присмотреть за малышами, открывает вновь, и кажется, будто ещё два жёлтых листа упали с дерева, и летят к её ногам. Вполне очевидно, что кошка хочет сохранить жар земли под своим неровно вздымающимся животом. Чтобы, когда придёт срок, мир встретил новую жизнь теплом.