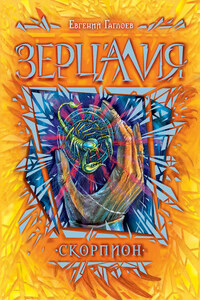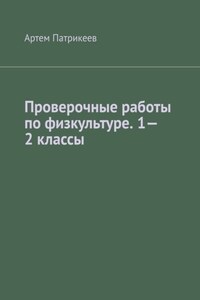Давным-давно – уж и не помню, сколько лет назад – жил да был в одной деревне богатый старый мельник. Год за годом – каждое утро – выходил он на крыльцо своего дома, щурился на солнце, если светило солнце, или же подставлял морщинистую ладонь дождю – если с неба лил дождь. «Ну, вот, еще один день Бог послал мне, грешному!» – привычно произносил одними губами мельник и отправлялся на мельницу, смотреть, как его потные работники, похожие в облаках мучной пыли на чертей, с рассвета льют золотой поток пшеницы на неутомимые жернова.
Убедившись, что все идет своим путем – вода из канала по-прежнему вращает колесо мельницы, а рядом с ней ждут своей очереди груженые доверху зерном телеги окрестных крестьян, – старый мельник возвращался домой. Завтракать. Все было в порядке: все шло к тому, что этот день, как и предыдущий, добавит в сундук мельника еще один звонкий серебряный талер.
Так жил наш мельник, так он и состарился.
А кроме сундуков с талерами, нажил к старости мельник троих детей: двух взрослых сыновей и дочь – совсем еще девочку, однако вылитую покойницу-мать. Мельник и любил ее поэтому больше, чем сыновей, – хотя, говоря начистоту, и было за что любить такую: сыновья – те, по большому счету, выросли лодырями, только и знали, что пить пиво в деревенской таверне да ругаться. А девочка – ее звали Гретхен – характером была – чистое золото: работящая и добрая. Всегда все по дому успеет, обед сварит – братьев накормит, а придет с мельницы отец – сядет рядом и к плечу его прижмется: мельник и растает весь, словно бы не было позади дня работы и лет жизни.
Однажды в деревне поблизости случился шумный праздник – староста выдавал замуж свою засидевшуюся в девках дочь. Всю ночь пировал народ – стучал пивными кружками по расставленным прямо во дворе столам, тушил в закопченных котлах мясо, пел хмельные тягучие песни. Глядя на сидевшего через стол невестиного брата – дородного и плутоватого детину, – мельник, перебравший уже густого и мутного деревенского пива, вдруг почувствовал, как словно бы годы пошли вспять – и он снова такой же сильный и молодой и все ему нипочем:
«А ну-ка, детка, – произнес он нарочно громко, чтобы все вокруг услыхали, – давай-ка потягаемся: кто из нас двоих поосновательнее будет. Сколько ты еще жаркого умолоть сможешь?»
«Да уж смогу, дядя мельник… видать, не меньше вашего!» – ответил детина, принимая вызов.
«Все слышали, али что?» – обвел тогда мельник взглядом прекративших свои разговоры гостей.
«Слышали, слышали, как не услышишь! Об заклад бьетесь – каждому ведомо! А что закладом-то станет?» – заверещали вокруг.
«А что закладом станет, в самом деле, а, дядя мельник?» – спросил сын старосты.
«А что будет? А вот что, – ответил мельник, – коли ты меня одолеешь – с меня две овцы».
«А если вдруг вы меня, неровен час? Тогда что?»
«Тогда… – мельник хитро прищурился, – тогда ты, сукин сын, женишься на моей Гретхен, когда она подрастет. Идет, али нет?»
«Идет-то идет, дядя мельник… – задумался детина, – Да, вот скажи только прежде – ты за дочку-то приданым или хоть в наследство что тогда определишь? Мельницу даешь или двор? Или, может, серебра сколько-то?» – звездочки жадности зажглись в глазах старостенка.
Развеселился мельник, увидав эти звездочки: «Совсем как я в молодости – своего не упустит, – подумал он, – такого бы моей девчонке и надо – да, к тому же, и староста, известно, хозяин зажиточный, право, имеет, что единственному сыну отказать». Однако виду мельник не подал – лишь взглянул на старостенка хитро да головой мотнул:
«Экой ты быстрый! Чтобы дочь моя да с мельницей и пошла за твой проигрыш? В своем ли уме ты?»
«А как же тогда, дядя мельник? Ведь нельзя же совсем без приданого».
«Нельзя, нельзя, тут ты прав! Совсем без приданого – дурное вовсе дело, совсем без приданого не годится… Я и не пущу ее без приданого, не пущу – уж будь спокоен! – медленно мельник встал со скамьи; хмельной туман тянул его за язык, – Не пущу без приданого, слышишь, детка… оделю щедро… – он обвел глазами затаивших дыхание гостей, – оделю… пусть будет с ней то, что она носит, и вся одежда ее, и рукоделье ее оконченное и неоконченное… и еще… еще пусть будет с ней… ну хоть бы наш белый кот!.. вишь, разбойник: его и кормить-то не надо почти – сам себе мышей наловит и этим горазд!..»
Валом хохота встретили гости эти слова. «Ай да мельник!» – неслось со всех сторон, – «Эк он старостенка поддел!» Ударили об заклад, принесли жаркое. Стали есть его – сперва с охотой, хоть и не голодны были уже, затем с равнодушием, а после – через силу. Едят они, едят – красные оба, потные – уж и не рады, что ввязались, уже и сдаться каждый готов – даром, что проигрыш по уговору не больно горек – а задор свое берет. Подымет один голову, взглянет на другого, какое у того лицо перекошенное, – и ну опять кусок в рот пихать: авось соперник вот-вот сейчас сломается!
В начале второго часа мельника вдруг что-то словно ударило на миг – в глазах потемнело и руки как, все равно, от холода затряслись – мелко-мелко. Но старик этому как следует и удивиться-то не успел даже – только он рот раскрыл для вдоха, как все и прошло, бесследно как будто!
Принялись есть жаркое дальше. Еще час ели, полтора, два ели – наконец не выдержал старостенок: встал из-за стола медленно, шагнул в сторону, скамью уронив, и, едва только пробормотать успел: «Ваша взяла, дядя мельник – ей-же, далеко мне пока до вашего-то пуза…» Пробормотал – и тут же к ближайшей канаве метнулся: видать, съеденное жаркое прочь запросилось…
А мельник – он сперва за столом посидел: как говорится, для приличия да еще чтоб поздравления не стоя выслушивать: стоять-то уж и сил у него не осталось. Посидел, посидел – поулыбался. Пива из кружки глотнул – чтоб икоту унять – после встал и медленно, вразвалочку пошел восвояси.
Домой он пришел уже под утро, еле переставляя ноги. Съеденное жаркое камнем обложило его внутренности. Дышать – и то было трудно. Мельник уже и не рад был, что затеял давешний спор, – и даже жалел, что вообще угодил на ту свадьбу. Хотя, с другой стороны, и не пойти нельзя было тоже – староста бы обиделся смертельно. Мельника мутило, но он все же попробовал думать о чем-то приятном: «Вот же все-таки – девчонку, считай, пристроил! Теперь уж староста не отвертится: вся деревня слыхала слово сказанное… ничем уж не перешибить…» Мельник прислонился к стене: «Сколько ж я съел жаркого этого проклятого?» Он открыл рот – хотел позвать кого-нибудь, чтоб помогли раздеться и лечь, но тут в глазах его вновь потемнело, как тогда, во время спора, и уже не отпустило тотчас, а словно бы какая-то невиданная прежде сила волной стала подыматься быстро внутри, обволакивая сердце, легкие, гортань. Вместо призыва о помощи, из открытого мельникового рта донесся теперь лишь еле слышный стон – старик медленно сполз по стене на землю и, прежде чем сбежались люди, умер.