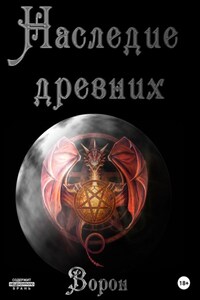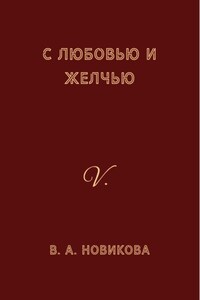Я благодарю своего мужа, свою семью и всех неравнодушных людей за помощь в подготовке этой книги. Я вам признательна, но все же боюсь, что вынуждена вас разочаровать. Ваша помощь и поддержка превратилась не во что-то хорошее и красивое, а в то, что вы прочтете ниже. Внизу, как под землей, будет только сырость, темнота и слепая, червивая возня внутренней жизни. Не стоит читать эту книгу. Лучше займитесь чем-нибудь поприятнее.
Потому что сейчас будет больно.
Мерзко.
Мокро и липко.
Если не будет – проверьтесь у психиатра на наличие скрытых патологий.
Сейчас – самое время остановиться. Если вы прочитаете хотя бы один рассказ из этой книги, расчитать, развидеть и забыть его уже не удастся.
Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно.
– Закройте окно, а!
Все удивленно обернулись к ней. Уборщица вновь опустилась к ведру с водой и резким, будто обиженным движением с плеском бросила в него тряпку. Она дернулась, чтобы подняться снова, но холодная волна чужих глаз в одно мгновение потушила этот порыв и она продолжила, уже жалея и не решаясь поднять головы:
– Солнце светит мне прямо в лицо, пятна в глазах. Ничего не видно.
На секунду, мучительно долгую секунду в вылизанном, белом помещении офиса повисла тишина. Женщина наклонилась поближе к полу, будто искала укрытия и пыталась слиться с серыми плитками, тряпкой и ведром.
Каждая плиточка принадлежала к касте неприкасаемых предметов – по ней всегда ходили только в обуви, отгораживаясь от её холода и грязи, занесенной сюда безразличной толпой в белых воротничках. Туда же – унитазы, раковины, грязная посуда, столы в фуд-корте. Туда же – и ее.
Казалось, тряпка на конце швабры вырезана из ее халата или халат перешит из тряпки – границы стирались вместе с грязью, и к этой женщине, как и к полу, уже нельзя было прикасаться. Она – лишь продолжение своей швабры. Когда она входила в комнату, ничье движение не выдавало ее присутствия, словно все сотрудники офиса были отделены от нее резиновой подошвой.
Она тоже не решалась отделиться от пола и встретиться глазами с кем-то живым. Все вокруг нее суетились, жонглировали в разговорах длинными, сложными словами, казавшимися языком древних богов с недостижимых вершин, каждое их движение было преисполнено смысла, важности и, главное, каждое движение, каждый щелчок клавиши стоили больших денег. Все, что они делают, стоит слишком дорого. Они получают огромные деньги. Цифры, которые выглядывали из стопок бумаг, кофе-машин, кулеров с водой и кожаных кресел казались из сгорбленного положения женщины такими большими, такими чудовищно внушительными. Все в этом офисе казалось огромным, значительно больше ее самой. Иногда, словно в кошмарном сне, ей казалось, что олимпийские боги в экстазе своей пляски раздавят ее, не заметив, одним взмахом руки – уволена! не нужна!
Ее выцветшее от усталости лицо сливалось с грязным полом и мутной, серой водой в ведре, а их лица были ничем иным, как продолжением чистых, белых стен и огромных окон, освещенных золотом и роскошью солнечных лучей.
Но вдруг что-то толкнулось в ее груди, то ли усталость, со временем зачерствевшая в безразличие, то ли мелкая, завистливая обида, рожденная беззащитностью и страхом. Это что-то толкнулось и вырвалось наружу резкой, громкой фразой. Случилось то, что не должно было произойти, что-то выплеснулось из надежных плотин негласных правил и обдало всех холодной волной. На секунду всеми овладело оцепенение.
– А вы не смотрите туда, – отозвалась одна из белых фигур, освещенная солнцем. Она стояла ближе всего к окну, и все, что было нужно – это вытянуть руку и взяться за ниточку, державшую жалюзи. Рука оставалась неподвижной, и солнце по-прежнему освещало его лик, преисполненный достоинства, божественной грации и магии денег.
– Это последние солнечные деньки, наслаждайтесь. Скоро снова будут дожди.
На остальных фигурах, где-то в вышине, мелькнула тень ухмылки. Стрекот клавиш, треск черных машин на столах и гул незнакомого олимпийского языка, прервавшись на мгновение, грохнул с прежней силой, заглушив фразу, повисшую в воздухе. Поток звуков, цифр и людей, плывущий по коридорам и циркулирующий в кабинетах, быстро вернул всё на свои места.
Женщина средних лет с почерневшими мешками под глазами, крупными, мясистыми морщинами и пятнами в глазах от ослепительного солнечного света больше не поднимала головы.
Те, кого хоронят за оградой
Это было наше лето. Я помню ее посреди раскаленного асфальта, пыльной городской зелени и желтого, кругом разлитого света. Каждый день у нее высыпало все больше веснушек, коричневых на смуглой коже. Когда мы встретились, она была еще по-зимнему бледна, а когда она убежала от меня (нет не ушла, такие люди непременно бегут, подскакивают, пританцовывают, летят по воздуху, но не идут), ее щеки и нос, бронзовые от загара, были усыпаны коричневыми точками, как у озорной девчонки из детских книжек. Словно эти веснушки отсчитывали мой срок. Когда я целовал их, горячие и соленые от солнца, я благодарил все существование, от земли и до неба, от хаоса до гармонии, от Бога до каждого атома – благодарил все подряд за то, что меня наградили таким счастьем. Каждая наша минута была переполнена любовью, каждое мгновение наполнялось смыслом, и, словно разбухая от этого груза, секунды становились тяжелыми, долгими и неизгладимыми. В эти дни я прожил целую жизнь, целую долгую, полную, счастливую жизнь.
Это она заразила меня жизнью. Кажется, ее энергия передается воздушно-капельным путем. Когда она смеется, искорки ее радости разлетаются вокруг и оседают в легких.
Мы с ней часто ездили на холмы. Наш город утопает в чаше, по ободку которой протянулась цепочка холмов, заросших лесом с широкими голыми проплешинами. В то лето они были особенно зелеными, потому что я смотрел на них влюбленными глазами. Трава била по ее коленям. В пахучей зелени прятались муравейники, красные россыпи земляники и пятнышки цветов. Она облизывала веточку и клала ее на муравейник. Когда она слизывала кислоту, высунув язык, все во мне поднималось так неудержимо и твердо, что мне приходилось закрывать глаза, будто она меня слепит. Она стягивала с себя футболку и, свернув ее как гамак, наполняла её ягодами, которых мы ели молча, под тихим куполом неба.
Я ни разу не видел на ней лифчика. Представляя себе женщину – не конкретную женщину, а просто любую, чистый образ – я воображал ее в нижнем белье, всегда в строго гармонирующей и неразделимой паре бюстгальтера и трусиков. Образ женщины был неотделим от этого комплекта, как кожа неотделима от тела. Но она, моя девочка, живая и живущая, не вписывалась ни в один мой стереотип. Она не носила бюстгальтер и часто – даже не уверен, что это было осознанно – недвусмысленно дразнила мужчин тенью своих сосков за тканью блузки или футболки. Она никогда не пользовалась макияжем, но ее глаза блестели, часто вспыхивали озорными огоньками и мерцали на солнце, губы горели от очередного замысла, они постоянно двигались в улыбке, смехе и болтовне – она вся была яркой, в ней выделялось все и сразу, будто ее подкрашивала сама природа.