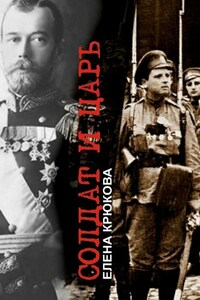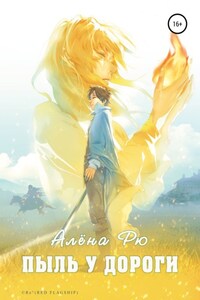Г-жа Папаи пришла на встречу минута в минуту. А вот господа минут на пятнадцать опоздали, за что долго просили покорнейше их простить, и потом преподнесли г-же Папаи букет по случаю ее шестидесятилетия. Все это происходило на площади Баттяни. Господа все извинялись и извинялись, пока г-жа Папаи не отмахнулась нетерпеливым жестом от всех этих ненужных слов, обезоруживающе улыбнувшись и сказав с заметным акцентом и певучей мелодией в голосе, которая лишь подчеркивала очарование ее фразы (в воздухе кружились снежинки, и о них, кстати, в отчете упомянуть забыли): «Пусть это будет самая большая проблема, господа», – точнее, она сказала «товарищи», но сейчас, дабы не умалять серьезности нашего повествования, останемся при слове «господа», которое все же больше соответствует учтивым комплиментам, прозвучавшим, когда мужчины преподносили свой роскошный букет. Далее все небольшое общество, как и было заранее условлено, направилось, обходя площадь, в сторону кафе, которое находилось у церкви или за ней (это уж как смотреть) и полуподвальное положение которого напоминало о временах до больших потопов. Заслышав звонкий смех г-жи Папаи, серая пена на реке тоже на миг повеселела, и да – сам Хокусай позавидовал бы этому изумительному зрелищу: на серебристо-серую воду косо опускаются огромные белые снежинки. В тот же самый миг в сторону Цепного моста от расположенной за выходом из метро конечной остановки отъехал с жутким дребезжанием, заглушившим смех г-жи Папаи, девятнадцатый трамвай[1].
Г-жа Папаи выглядела не особо элегантно: на лоб натянута толстая вязаная шапка из цветной шерсти, бежевое пальто на теплой подкладке, вышедшее из мастерских швейной фабрики «Красный Октябрь», тоже не сказать чтобы последней модели, обута в простые туфли на плоской подошве, а единственным украшением были прекрасные сияющие глаза – яшмово-зеленые, отливающие серым и голубым. Она будто намеренно не заботилась о своем внешнем виде. «Будет вам, господа! Неважно, как человек выглядит, не платье красит человека!» – сказала бы она, если бы ее об этом спросили. На сей раз, кстати, непритязательный вид определенно был ей на руку. То, что у нее день рождения, она им не сообщала, потому что г-же Папаи было особенно важно, чтобы окружающие «не устраивали никаких глюпостей» по поводу этого дня, не нравились ей церемонии, ненужные празднования: «Есть на этой земле много более важные вещи, куда более важные: люди голодают, ходят без обуви, болеют, гибнут на войне», – хотя на самом деле рождение г-жи Папаи было окутано некоторой неопределенностью – об этом, впрочем, троица наших господ точно знать не могла. Так уж совпало, что день рождения г-жи Папаи время от времени приходился на один славный скользящий праздник, и в ее детстве семья, все еще строго соблюдавшая религиозные предписания, когда было настроение, отмечала день рождения г-жи Папаи, этот двойной праздник, по нескольку дней кряду, раз уж праздник зажигания свечей длится, как всем известно, восемь дней; родители же, поддавшись артистическому легкомыслию, иной раз даже отступали от настоящей, прозаической даты (кстати, это было 3 декабря), ведь дочь своим появлением на свет доставила им такую же радость, что и сам праздник. Наверное, именно из-за этого скольжения и вышло так, что мать г-жи Папаи, натура увлекающаяся, известная плохой памятью и склонная к флирту, объявляясь в разных колониальных и прочих конторах, коих из-за двойной администрации было до обидного много, что сильно усложняло жизнь переселенцев, всякий раз называла иную дату, ибо обнаруживала вдруг, что помнит только, что дочь родилась на Хануку, отчего в разных документах могли фигурировать сразу несколько соседних дней, а именно 1 декабря, 2 декабря, 3 декабря – больше того, в одном месте значилось шестое! – чем, наверное, и объясняется «равнодушие» и даже глубокая антипатия, какую г-жа Папаи – убежденная атеистка – испытывала по отношению к собственному дню рождения. Если нельзя узнать, в какой именно день она на самом деле родилась, останавливаться на какой-то конкретной дате и вправду довольно абсурдно. Но господа всего этого знать не могли.
И вот г-жа Папаи спустилась по крутым ступеням, ведущим в кафе «Ангелика», в сопровождении трех обходительных господ (подполковника полиции Миклоша Бейдера, передающего, старшего лейтенанта полиции доктора Йожефа Доры, принимающего, а также подполковника полиции Яноша Сакадати, замначальника сектора)[2]. Все это только потому не выглядело как выход опереточной примадонны, что двое, Дора и Сакадати, из скромности и в соответствии с правилами конспирации несколько поотстали. Но на этом сюрпризы не кончились. Они уже сидели внизу, в одном из уютных закутков, отгороженных высокими спинками диванов, и господа уже успели посоперничать друг с другом в том, кому из них удастся подхватить зимнее пальто с плеч г-жи Папаи (самым ловким оказался Миклош), а когда пальто с ее плеч ниспало, взоры всех троих задержались на былой красоте уже немолодой и не очень высокой женской фигуры, явленной в бедрах и высокой полной груди, которые, кстати, в расцвете своей красы представали на неизвестных троим господам пляжных фотографиях, преимущественно на тех, что выгодно подчеркивали силуэт на фоне предзакатного неба; на них же вырисовывалось в профиль и лицо, красивое отчасти благодаря своим совершенным пропорциям, а отчасти – благодаря веселости и безусловной любви к жизни, которыми светились его черты. То, что оные старые экзотические фотографии делались у моря в ходе конспиративных собраний, вероятно, взбудоражило бы троих господ, если бы об этом вообще зашла речь, но беседа не касалась ливанских кедров, в сени которых таились бухты, где купались и флиртовали друг с другом дамы и господа самых разных национальностей и вероисповеданий, где они фотографировались с осликами, водопадами и Средиземным морем и где обсуждали насущнейшие задачи местной партячейки, пока к северу от них бушевала мировая война. Так вот, когда все четверо расселись в закутке и тщательно изучили меню, трое господ, чуть не перебивая друг друга, заказали себе кофе, а г-жа Папаи – чай «эрл грей», считавшийся в те времена пределом роскоши; от пирожного же, хоть взять его и уговаривал мягким баритоном старший из господ, Миклош, она отказалась, сославшись на чрезмерный объем талии. «Французские бисквиты здесь весьма недурственные, просто бесподобные, – уверял ее Миклош. – У меня внук по два за один присест съедает, а уж маковые…» («Флодни! Это такая еврейская штука, да?» – встрял было товарищ Сакадати, но, почувствовав на себе неодобрительные взгляды Миклоша и Йожефа, тут же умолк.) Миклош, который знал г-жу Папаи дольше всех, продолжал настаивать и все нахваливал ей знаменитые на весь мир кондитерские шедевры «Ангелики», пока после долгих колебаний она наконец не дала себя уговорить и не согласилась на профитроль; воспоследовавшая за этим война между вилочкой и профитролем оставила на губах г-жи Папаи следы взбитых сливок, которые она слизывала с громким хохотом, что потом дало повод для многочисленных шутливых замечаний со стороны мужчин. Сами они тоже, наверное, не отказались бы что-нибудь съесть, однако понимали, какие издержки повлечет за собой эта встреча