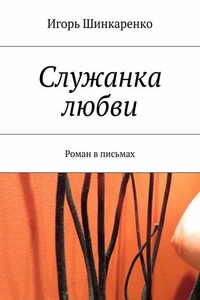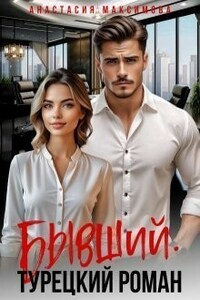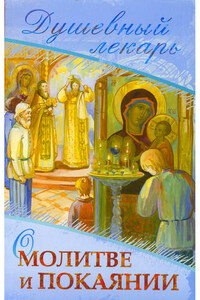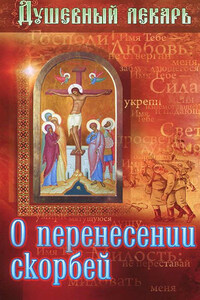Я был обязан своим появлением на белый свет развлечениям одного иезуита из Авиньона, вернее, как ни странно, его ежедневным прогулкам по окрестностям после вечерней службы, когда он однажды вечером повстречался с моей матерью, прачкой, обстирывающей всю мужскую братию монастыря за божью благодарность и пару су, чтобы не умереть с голоду, на узкой дорожке, ведущей из этого кладезя и светоча духовной мысли в город и, не оставив матери места для прохода, столкнул её на лужайку, после чего воспользовался беспомощностью, усталостью и страстной от природы натурой молоденькой беломойки (не путать с белошвейкой) священных монашьих портков. У моей матушки не было никаких шансов избегнуть возможности дать мне жизнь, и через предусмотренные Создателем девять месяцев я впервые явил свету все свои достоинства. Едва мне исполнилось шесть лет, как меня, благодаря отцовской нежности и милосердию отцов-иезуитов, допустили в младшие классы местной школы, где я, пользуясь щедростью природы, наградившей меня живым и пытливым умом, а также своему старанию, редкому в таком возрасте среди моих сверстников, сумел за один год перескакивать через два-три учебных курса, а кроме того, я устроился служкой в монастыре, где уже в шестнадцать лет моим наставником определили знаменитого отца Натофиля, ставшего в одночасье поклонником моих талантов. Я же, благодаря, по всей видимости, церковному зачатию, рано развился во всех аспектах—и физически, и умственно, и был, что называется, божественной скороспелкой. Моё тело было стройным, с тонкой аристократической костью, а круглое белоснежное лицо, с румяными щёками, голубыми пронзительными глазами и черными волосами придавало мне вид более взрослый, чем мне было на самом деле… все меня принимали за юношу в возрасте двадцати лет. Хотя… низость моего происхождения и бедность моей одежды не позволяли мне быть в близких отношениях с моими одноклассниками и, следовательно, уберегали меня от всех порочных развлечений, которыми они увлекались, а я посвящал всё моё время изучению наук. Мой наставник, отец Натофиль, удовлетворённый моими достижениями, как в учебных дисциплинах, привязался ко мне и поручил моим заботам порядок в его комнате. В мои обязанности входило заправлять его постель, подметать пол, и приносить отцу Натофилю всё, в чём он нуждался, а чтобы вознаградить моё старание, он мне давал частные уроки после занятий в классе, и кроме того, я выполнял для него роль чтеца, поскольку он меня заставлял читать в своей комнате авторов, которых нет в школьной программе.
Однажды, когда мне было всего лишь восемнадцать лет, наставник меня зажал между своих ног, дабы следить за моими глазами во время декларирования мной «Сатирикона» Петрония Арбитра… и вдруг его лицо неожиданно воспламенилось, глаза засверкали, дыхание стало учащённым и синкопированным… Я с беспокойством и любопытством наблюдал за этими изменениями, чем допустил промашку, рассеяв своё внимание, что заставило меня сделать ошибку в тексте.
– Какой негодник! – произнёс отец Натофиль тоном, который невольно заставил меня задрожать, – даже шестилетнее дитя не совершило бы подобной ошибки, и мне кажется, что вас заставит взяться за ум лишь только божественный кнут.
Напрасно я извинялся и просил пощады, моя участь была предрешена, и мне пришлось подчиниться. Мой наставник вооружился пучком гибких ивовых прутьев и, заставив меня низко спустить штаны, буквально бросил моё тело на свою кровать, и опасаясь, что я могу убежать от него в последний момент, чтобы избегнуть наказания, он просунул руку под мои бедра и схватил меня за мой отросток между ног, который я до сих пор использовал только по одному назначению, хотя его монументальная твёрдость по утрам уже более года заставляла меня размышлять о том, что у этого органа может быть и другое предназначение.
– Итак, мой маленький плут, я тебя научу, как следует избавляться от солецизмов!
Тут же отец Натофиль, слегка взволнованный происходящим, легко провел прутьями по моим упругим холмикам ниже талии, скорее гладя их, чем раня и повреждая нежную кожу. Уж не знаю что, страх или приятное трение, но, безусловно, какое-то новое ощущение заставило увеличиваться в размерах то, что священник держал в этот момент в одной их своих рук.
– Ах! Мой маленький распутник, что я чувствую там…? О! У вас это будет предмет большой значимости, просто определяющей для вашей будущей жизни.
И отец Натофиль продолжил такое приятное для меня бичевание, как и свои прикосновения к моему отростку вплоть до тех пор, пока я, опьянённый сладострастием, не увенчал его усилия струёй жгучего нектара, излившегося из него, и наставник удостоил меня тёплыми поздравлениями, после чего, бросив прутья, произнёс:
– Обратишь ли ты теперь больше внимания на точность изложения произведений классиков в следующий раз?
– Ах! Я так не думаю, мой отец, ведь по сравнению с декламацией сколько удовольствия мне доставило наказание и исправление, принятое из ваших рук.
– Ты уж прости мне мой гнев… Итак, старайся хорошо учиться, и я вознагражу тебя так же примерно, как только что наказал.
Я с восторгом поцеловал руку отца Натофиля, а он меня обнял, задержав свои руки на моей попке, после чего покрыл меня поцелуями.
– Так как ты оказался, как я и ожидал, вполне доволен наказанием, постигшим тебя, моё дорогое дитя, – продолжил он, – то ты просто обязан и меня вознаградить за мои хлопоты, и точно таким же образом.
– Я никогда не осмелюсь этого сделать…! Хлестать моего наставника и регента!
– Рискни малыш… я в твоём распоряжении и, если тебе это необходимо для того, чтобы ты осмелел, то считай, что я просто приказываю тебе это сделать.
Услышав столь недвусмысленный приказ, я отправился, краснея, за прутьями, а отец Натофиль обнажил предо мною своё тело, и только я едва осмелился прикоснуться к нему прутом, как он с каким-то надсадным хрипом заорал на меня:
– Сильнее… ещё сильнее! Необходимо намного строже наказывать за ошибки преподавателей, а не их учеников.
Наконец, осмелев, я схватил мэтра за его скипетр, как немного ранее он это проделал со мной, и стал так сильно хлестать его по слегка подвядшим, принимая во внимание возраст, чреслам, что буквально через пару минут отец Натофиль излился слезами радости и удовольствия. С этого момента между нами установились доверительные отношения и отец Натофиль, сославшись на поразивший его приступ простуды, который вынуждал его постоянно иметь при себе служку, который бы помогал ему и ухаживал за ним, заставил поставить мою кровать в маленький кабинет, который был расположен рядом с его спальней, но на самом деле это было сделано ровным счётом только для проформы, потому что стоило только мэтру лечь в кровать, как он тут же звал меня к себе, чтобы я пришел и лёг рядом с ним или сидел, бодрствуя, возле него. Он был моим Сократом, а я его Алкивиадом. С этого времени, чередуя страсть и терпение, отец Натофиль положил все свои силы и знания на моё воспитание и образование.