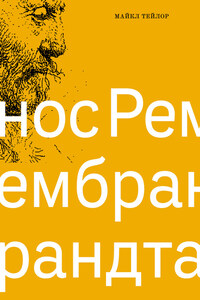Поразмыслить о том, как Рембрандт изображал носы, свой собственный и своих моделей, показалось мне столь занимательной и в то же время предсказуемой идеей, что я удивился, почему этого еще никто не сделал. Но для меня реализация подобного замысла стала авантюрой, поскольку я не являюсь специалистом по голландской живописи XVII века. Я решился на нее по совету первого издателя этой книги, Адама Биро, которому понравилось, как звучит заголовок французской версии – «Le Nez de Rembrandt», поэтому он отмел мои опасения и пошел на риск, заказав мне английский текст и оплатив его перевод на французский. Советы и поддержка с его стороны, а также со стороны моей жены Ирины, моего переводчика на французский Ришара Кревье, Шэрон Галлахер из Distributed Art Publishers и Япа ван дер Вена, сотрудника Дома-музея Рембрандта в Амстердаме, были неоценимы. Саймон Шама был тем гигантом, на чьи плечи я встал. Его книга «Глаза Рембрандта» помогла мне увидеть то, к чему я без нее, несомненно, остался бы слеп. Я глубоко благодарен им всем.
Авторы первых жизнеописаний Рембрандта непременно отмечают внушительное импасто на его картинах: слой краски толщиной в дюйм; портрет, написанный так, что можно поднять холст, взявшись за нос изображенного; драгоценности и жемчуга, словно бы рельефно выступающие из плоскости картины. Хаубракен, повествуя об этой особенности рембрандтовского письма, приводит забавную историю: будто бы Рембрандт записал фигуру Клеопатры, чтобы максимально увеличить эффект от одной единственной изображенной жемчужины.
Светлана Альперс. Предприятие Рембрандта: мастерская и рынок (1988)[1]
Нос Клеопатры: будь он чуть покороче, весь облик Земли был бы сегодня иным.
Блез Паскаль. Мысли (1679)
Держите себя в руках! Это моя картина. Я заплачу вам 30 000 фунтов за эту сомнительную французскую копию Рембрандта… Смотрите, нос тут великолепный! Оставьте это, остальное можете сжечь!
С этими словами, обращенными к директору аукциона Sotheby’s, сэр Гай Гранд вырезает нос из только что приобретенной работы «Школы Рембрандта» в фильме Джозефа Макграта «Волшебный христианин» (1969).
Портрет человека с собакой, причем оба явно не в своей тарелке
В работах Рембрандта, сына мельника ван Рейна, собаки появляются часто, хотя, по сравнению с обычным количеством собак на картинах голландских художников XVII века, их не так много. С его набросков, гравюр и полотен на нас смотрит разношерстная собачья компания, лохматые дворняги, которые то и дело бесцеремонно вторгаются в высокую драму библейских сцен, как, например, пес, справляющий большую нужду на переднем плане офорта «Добрый самаритянин». Этот в своих потугах похожий на перевернутую пирамиду зверь, само воплощение собачьего зловония, привлекает внимание зрителя, когда тот перехватывает взгляд слуги, помогающего раненому путнику слезть с коня. Его взгляд устремлен вниз от центральной группы фигур, где на пороге своего заведения, явно знавшего лучшие времена, возвышается старый хозяин постоялого двора. Зачем художник поместил этого пса именно здесь, почему он так любовно, во всех подробностях, изобразил его шерсть c нежными завитушками на ушах и морде? Чтобы заполнить неловкую пустоту в композиции? Чтобы мимоходом непристойно пошутить? Или это вызывающий жест самоуверенного молодого творца?
Испражняющиеся собаки – общее место в голландском искусстве. Они символизируют обоняние в аллегорических изображениях пяти чувств. Такие картины пользовались успехом у покупателей, которые хотели, чтобы произведение рассказывало правдивую, откровенную историю о том прозаическом мире, в котором они жили и из которого по воскресеньям сбегали в церковь петь гимны. Эти собаки были непременной деталью сцен крестьянских попоек наряду с хмельными парочками, занимающимися любовью, и писающими мальчишками. Они были частью грубого деревенского фольклора, тешившего души горожан, которым между очередной эпидемией чумы и проклятиями проповедников и прочих ревнителей общественной морали надо было попросту посмеяться и посмешить своих гостей.
Но Рембрандт преследовал другую цель. История о добром самаритянине – это притча о равнодушии и о сострадании. На человека, шедшего из Иерусалима в Иерихон, напали разбойники; они обокрали его, избили и оставили в пыли умирать. Священник, а затем и левит прошли мимо него. И только третий, чужестранец из Самарии, сжалился и пришел к нему на помощь; он промыл раны путника маслом и вином, перевязал их, посадил его на своего коня и привез на постоялый двор, а на следующий день, перед отъездом, дал хозяину два динария со словами: «Позаботься о нем, и если потратишь больше, я, когда возвращусь, отдам тебе».
Рембрандт объединил прибытие самаритянина и раненого на постоялый двор с вручением хозяину двух динариев. Ее «конструктивистская» композиция, состоящая из пересекающихся треугольников, держится на хрупком равновесии контрастирующих объемов и фактур: жесткий солнечный свет и бархатные тени, осыпающаяся штукатурка и легкие штрихи, которые, как кажется, невозможно сделать резцом: так изображены трава и камыши на переднем плане справа, украшение на берете конюха, перо на шляпе зеваки, который смотрит на происходящее из окна, эгретка на тюрбане самаритянина, вялая летняя листва на деревьях позади трактира, сухие листья, что, кружась, летят в колодец, откуда служанка набирает воду, и прядь волос, выбившаяся из-под ее чепца. Вплетенные в паутину живописных деталей, эти контрасты прибавляют убедительности и без того совершенно голландской и такой домашней новозаветной сцене. Художник соединил мечтательную созерцательность и моменты невероятного напряжения – особенно в группе, окружающей раненого путника, которого снимают с низкорослого, но стройного, как статуэтка, коня, дремлющего посреди съежившихся полуденных теней. Не говоря уже о псе, что присел на корточки у задних ног лошади и с усилием опорожняет свой кишечник, как будто вторя самаритянину, властным жестом отправляющему деньги в кошель трактирщика.
1. Добрый самаритянин. 1633
Офорт
Национальный музей, Амстердам
На фоне ветхого трактира, на вид древнего и слегка экзотического, тяжело раненному человеку помогают сойти с коня. На ступенях перед входом в трактир – кучка людей, каждый из которых занят, даже поглощен, своим делом. Их сближает и одновременно подчеркивает индивидуальность каждого лаконичность образов, условность черт, в основном – глаз и носа. Юный конюх стоит в характерной позе охранника, его определяющие черты – это перевязь с кинжалом на талии и полумесяц безбородого лица, на котором видны только точка правого глаза и пуговка носа, поскольку оно обращено к путнику, чьи черты искажены гримасой боли. Слуга, который помогает ему спешиться, как будто не ощущает веса его израненного тела. Только напряжение его пальцев, ушедших в складки одежды путника, говорит о прилагаемом усилии. Слуга заметил собаку и смотрит на нее, нахмурившись и сморщив широкий нос. Он – единственный из всех участников сцены, кто заметил животное. У входа в трактир глаза хозяина с костлявым и морщинистым носом подозрительно и озадаченно буравят самаритянина, чья безликость, подобная безликости Христа на картине «Трапеза в Эммаусе» из музея Жакмар-Андре в Париже – самая дразнящая деталь этого офорта. Темное пятно его щеки над левым плечом притягивает взгляд, вызывает желание войти в картину и посмотреть, как выглядит этот добрый человек. Юноша, опирающийся на подоконник в левом углу картины, мог бы что-то сообщить нам об этом, поскольку смотрит прямо на самаритянина, но его повернутое в профиль лицо непроницаемо; если на нем что-то и написано, то это скука молодого человека – путешественника или солдата, – который видел вещи более занятные, чем случайное проявление доброты. Жизнь его не сахар, и сломанный нос тому свидетельство.