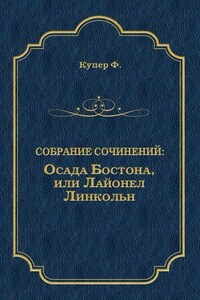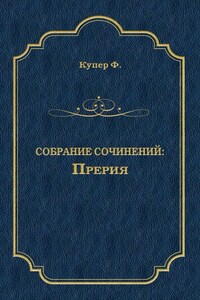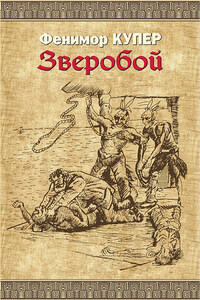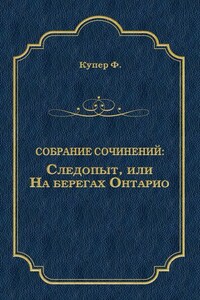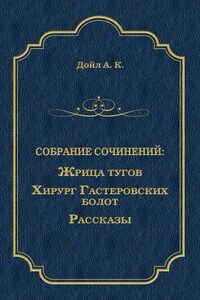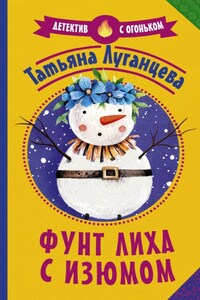Их юности веселый пыл
Душе усталой возвратил
Ушедшую весну.
Грей[1]
Ни один американец не может пребывать в неведении о том, какие именно события подвигли английский парламент в 1774 году весьма неосмотрительно закрыть порт Бостон, что столь пагубно отразилось на торговле этого главного города западных колоний Великобритании. Совершенно так же ни одному американцу не может не быть известно, с каким благородством и с какой неослабной приверженностью великим принципам борьбы за свои права население близлежащего города Салем не пожелало извлечь для себя какую-либо выгоду из трудного положения, в которое попали их соседи и братья по этой борьбе. В результате столь опрометчивых мер английского правительства, а также похвального единодушия купечества того времени белые паруса в опустевшем заливе Массачусетс стали довольно редким зрелищем; исключение составляли лишь те суда, над которыми развевался королевский вымпел.
Тем не менее как-то на исходе дня в апреле 1775 года сотни глаз были прикованы к далекому парусу, который, возникнув над морским простором, приближался по закрытым водам ко входу в запретную гавань Характерный для той эпохи живейший интерес к политическим событиям заставил довольно большую толпу зевак собраться на Бикон-Хилл, заполнив весь его восточный склон от конической вершины до подножия: все взгляды были прикованы к предмету, возбуждавшему всеобщее любопытство. Впрочем, собравшихся здесь в столь большом количестве людей волновали весьма разнородные чувства и совершенно противоположные желания. В то время как добропорядочные, серьезные, но осторожные горожане старались скрыть переполнявшую их души горечь под маской холодного безразличия, несколько веселых юнцов, одежда которых изобличала в них военных, громко выражали свой восторг и шумно радовались предстоящей возможности получить весть из далекой родины, от близких и друзей. Но вот в вечернем воздухе разнеслась громкая, протяжная дробь барабанов, долетев с близрасположенного плаца, и шумная часть зрителей сразу покинула свой наблюдательный пост, а холм остался в безраздельном владении тех, кому по праву надлежало там быть. Однако в те времена люди опасались свободного, непринужденного обмена мнениями, и, прежде чем вечерний сумрак поглотил длинные тени, отброшенные лучами заходящего солнца, холм совершенно опустел: горожане спустились с возвышенности и побрели каждый своим путем – молчаливые, задумчивые, – туда, где вдоль восточной стороны полуострова протянулись по равнине ряды серых крыш. Но, невзирая на эту видимость равнодушия, молва, которая в периоды большого брожения умов всегда найдет способ шепнуть на ухо то, что не рискнет произнести вслух, уже деятельно распространяла нежеланную весть о том, что приближающееся судно было первым кораблем большой флотилии, привезшей запасы продовольствия и пополнение для армии, и без того слишком многочисленной и слишком уверенной в своей мощи, чтобы уважать закон. Это неприятное известие не повлекло за собой никакого шума или беспорядков, но двери домов угрюмо замкнулись, и в окнах сразу погасли огни, словно этим молчаливым протестом население хотело выразить свое недовольство.
Тем временем корабль достиг скалистого входа в гавань, но, так как был отлив, а ветер совсем утих, ему пришлось лечь в дрейф, словно он предчувствовал не слишком радушный прием, который его ожидал. Впрочем, страхи бостонцев оказались преувеличенными, ибо на борту корабля вы бы напрасно стали искать буйную ватагу солдат – отличительную примету транспортного судна. Пассажиров на корабле было совсем мало, а на палубах царил такой идеальный порядок, что этим немногочисленным пассажирам невозможно было решительно ни на что пожаловаться. Внимательный наблюдатель мог бы по некоторым внешним признакам сделать заключение, что на борту этого судна находятся люди, обладающие таким положением или состоянием, которое заставляет других заботиться об их удобствах. Немногочисленная команда корабля бездействовала, расположившись на разных концах палубы, и поглядывала на неподвижную гладь залива и пустые паруса, лениво свисавшие с мачт, а несколько одетых в ливрею слуг томились вокруг какого-то молодого человека, который засыпал вопросами лоцмана, только что поднявшегося на борт. Костюм молодого человека отличался большой пышностью, и по тому, с каким тщанием были обдуманы и подобраны все его детали, нетрудно было предположить, что, по мысли его обладателя, он являл собой самый последний крик моды. Лоцман и его собеседник стояли неподалеку от грот-мачты; вокруг них палуба была пуста, и только возле штурвала корабля, где неподвижно застыл рулевой, виднелась одинокая фигура какого-то человека, производившего впечатление существа из совершенно иного мира. Его можно было бы назвать глубоким стариком, если бы быстрый, твердый шаг, которым он мерил палубу, и живой горящий взгляд не опровергали всех прочих примет его почтенного возраста. Стан его был сгорблен, и тело поражало своей худобой. Редкие, развеваемые ветром пряди волос были посеребрены инеем по меньшей мере восьмидесяти зим. Время и тяжкие испытания проложили глубокие борозды на его впалых щеках, придав особый отпечаток силы резким и надменным чертам его лица. На нем был простой выцветший кафтан скромного серого цвета, носивший явные следы долгого и не слишком бережного употребления. Порой он отрывал свой пронзительный взгляд от берега и принимался быстро шагать по пустынному юту, погрузившись в свои думы, и губы его шевелились, однако ни единого звука не издавали эти привыкшие к молчанию уста. Он весь был во власти одного из тех внезапных побуждений, когда тело машинально подчиняется велению беспокойного ума.
В эту минуту какой-то молодой человек поднялся из каюты на палубу и присоединился к группе людей, взволнованно и с интересом вглядывавшихся в расстилавшиеся перед ними берега. Молодому человеку с виду было лет двадцать пять. Небрежно наброшенный на плечи военный плащ и видневшийся из-под плаща мундир достаточно убедительно свидетельствовали о военном звании их владельца. Молодой офицер держался непринужденно, как человек светский, но выразительное, подвижное лицо его казалось овеянным меланхолией, а по временам даже глубокой печалью. Поднявшись на палубу, он встретился взглядом с беспокойно шагавшим по юту стариком, учтиво поклонился ему и, повернувшись к берегу, погрузился, в свою очередь, в созерцание красоты умирающего дня.
Округлые холмы Дорчестера горели в лучах опускавшегося за их гряду светила, и нежно-розовые блики играли на поверхности воды, а зеленые островки, разбросанные у входа в гавань, покрылись позолотой. Вдали над серой дымкой, уже окутавшей город, вздымались ввысь высокие шпили колоколен; флюгера на них сверкали в вечерних лучах, и прощальное яркое копье света скользило по черной башне маяка, возвышавшегося на конической вершине холма, названного Бикон-Хиллом после того, как на нем воздвигли это сооружение, призванное предупреждать об опасности. Несколько больших судов стояли на якоре у островов и у городской пристани; их темные корпуса тонули в сгущавшихся сумерках, в то время как верхушки длинных мачт еще были озарены солнцем. И повсюду: и над этими угрюмыми молчаливыми судами, и над небольшим фортом на маленьком островке в глубине гавани, и над некоторыми высокими городскими зданиями – висели широкие шелковые полотнища английского флага, мягко колыхаясь на ветру.