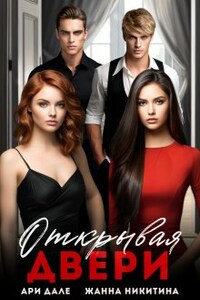Посвящается Лилу Журавлёвой
Не чтоб открыть, а чтобы перевести дух.
– Сто девяносто девять, – зять каждые пол минуты отсчитывал секунду,– Двести.
– Не надоело? – дед разыскивал зятя.
Холодильник, окно, чайник. Кто-то пьёт чай. Около чайника пусто. Значит уже налил, но где ? И почему чай? Может, вода.
Мухи на липкой люстрой ленте всё лежали и жужжали:
– Двээзди два, двээзди трии…
Из каждой щели:
– Двести два…
– Итак тошно, – сказал дед, созерцая закрытую форточку, которую не открыть.
– Двести два, – темп ускорился, – двести три, двести четыре, двести пять…
Дед сразу нашёл зятя. Зять шмыгал крысиным носом и терялся в тесноте тарелок, стаканов и блюдец. Его потерянные глаза искали что-то. Как будто близко, как будто направо, налево, тупик, заново, налево, налево, направо – тупик, заново, налево, налево, налево, направо, налево – и всё.
Но зять не находил этого всего. Зять сидел на диване. Зять глядел в пустоту. Зять барабанил по кухонному столу. Зять всегда барабанил, даже гроб отца зятя звучал, как зять по кухонному столу.
Дед молчал, но римские:
– Двести пять, двести семь… – были, как зять, везде.
Дед ушёл в гостиную. В гостиной сквозь его слёзы просвечивалась сгорбленная и скомканная, как магазинный чек, бабушка. Бабушка, как бабушка, как все бабушки, прекрасно помогала:
– Да-так. Да-сяк. Да не так, а сяк. Да не так. Да-да. Да-сяк. Да нет, не так, вот так. Да, да, да. Или нет?
– Люб, ты накапала? – сказал дед, обтирая внука мокрой тряпкой.
Бабушка прошерстила аптечку. В аптечке были капли для носа, глаз и ушей. Может их накапать? Нет. Значит накапать-накапать. Дед взглянул на кухню. Кухня…Стол, рюмка, под ухом хрюкать целую ночь. А утром голова гудит, в голове гремит, разливное, светлое, тёмное льётся…
– Триста восемьдесят пять… – из кухни послышался зять.
– Триста восемьдесят пять, – повторил дед.
– Сейчас, – бабушка ушла на кухню, – Валерьянка закончилась!
Мальчик переставал дышать. Всё темнело. Лишь мокрая тряпка тускло освещала просторную, но заполненную, как церковь без свеч и без света, иконами комнату.
– Вась, – дед прикоснулся левой ладонью ко лбу внука и сразу отдёрнул её.
Мальчик уснул, а дед, баба и папа сидели на кухне. Бабушка успокаивалась салатом, отец считал, а дед смотрел на своё заострённое счастье, сжимая левую руку в кулак.
– Шестнадцать тысяч цифр осталось до Солнца – сказал зять, – Ночь состоит из шестьдесят четыре тысячи восемьдесят цифр.
Дед ждал. Его сердце, как счастье звучало по брёвнам. И с каждым ударом ложки по тарелке, с каждым ударом в груди, с каждым ударом секундной стрелки, с каждым ударом дед помаленьку приподнимался.
– Куды удумал? – зашептала бабка, ударив ложкой по тарелке, – Лучше хлеба нарежь.
Дед отвернулся от окна, и глядел то на свою старуху, то на зятька. Бабка уткнулась в салат, а зять считал в себя. Каждый в себе. Кроме деда. Дед пошёл спать.
Дед стоял над больным внуком, просто стоял, стоял, как лишний. Вася дышал, будто дом горел, будто на глубине озера застряло маленькое тело, будто ещё почти просто тело потеряло почти. Почти рифмуется с почтим. «Мы тишиной его почтим
Почти – потом поминки, разговоры. Как хочется от вас простора – простор в гробу».
Когда мальчик залепетал тусклое «Дед», то дед проснулся. В своей комнате он был один. Когда он проснулся, над ним висела его рука. Не придав этому значения, дед заснул и снова почти тело, проснулся, висела рука, почти тело, проснулся, висела рука, почти тело…